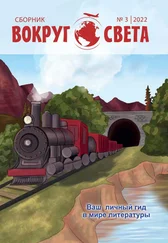Он просит, молит, настойчиво молит, а голоса нет, лишь шевелятся пересохшие губы. Но кто то угадывает его мысль: под чапаны лезут руки, шарят, прикладывают железную кружку к горячим губам.
— Мама.
Хорошо. Да, это мама. Вот она приложит сейчас руки ко лбу, пожалеет.
Но что ж она медлит?… Скорее же приложи. Дай почувствовать твое родное тепло. Нет, нет, нет, нет… И вспомнил: окно открыто в сад, зеленые липы стоят стеной, поет зяблик. И в комнате поют уныло. Пахнет ладаном. На столе синий гроб, укутанный белой тюлью, — чуть пробивается синева сквозь тюль… Там мама. «Вечный покой подаждь, Господи.» У окна гимназист в серой курточке, подпоясанный ремнем, большелобый… Гриша.
Чьи то руки трогают лоб. Руки шершавые и горячие.
— Пить! Пить!..
— Захворал что ли ты?
— Захворал, мама.
— Эва, я не мама. Аль не узнаешь?
— Узнал, мама. Дай воды.
— Ну, замолол. Вот вода. Голову то подними.
Вода льется за ворот, бежит по груди, по бокам, дрожью отзывается по всему телу.
— Еще?
— Не надо, мама.
— Да ты что? Вправду чтоль не узнаешь?
— Надо узнать, надо, — ясно подумал Кузьмич и сдвинул горячими руками чапан.
Пахнет пылью, холодеющей землей и дегтем… Кто то жаркий сидит рядом, — не разберешь в темноте.
Лошадь жует.
— Лиза?
— Знамо я, а то кто же?
Ах, вот кто, Лиза. И вспомнил все: Вязовку, Лизу, Луку, пылающее лицо зверя на небе, молебны в поле… «Три года будете камни глодать.»
— Лиза, ты помнишь?..
— Чево?
— Как ты и все плакали, когда уезжали из Вязовки.
— Заплачешь. А ты спи-ка.
Как душно. Уйти бы отсюда, чтобы не пахло дегтем и пылью. Холодно. Нет, не надо шевелиться. Вот Она, Белая Дева. Голова в небе, руки опущены, вдали с горизонтом сливается платье.
— Лиза.
— Чево тебе?
— Я пошел с мужиками потому, что люблю тебя. Ты меня не бросишь в поле, как Плетневых?
— Молчи, молчи, тятя услышит.
Белая Дева смотрит холодно. Кружится все кругом.
— Эй, вставайте! Ехать!
Куда ехать, когда здесь тепло? Не надо. Но чьи-то руки тянут.
— Вставай, Кузьмич.
— Не надо. Полежать бы…
— Тятя, Кузьмич то захворал.
Кто говорит? Что за ложь? Разве я захворал?
И поднялся, судорожно цепляясь за воз.
Хотел подняться на ноги, но кто то ударил по голове. Что такое? Ах, это телега. Надо вылезть. И полез. У, как холодно.
— Захворал? Аль правда?
— Нет не захворал, так что то. Наступило на меня солнышко огненной ногой…
— Э, ты все причужаешь. Запрягай-ка лошадей то. Счас поедем.
Холодно. Зубы бьют дробь.
Лука стоит в стороне и широко крестится на белую ленту, что висит на востоке. Кузьмич подумал о нем.
— Чудак, сейчас оттуда взойдет зверь. Кому молится?..
— Запрягай! Живея!
Лизка ведет лошадей, ловко возится около них.
— Кузьмич, давай дугу.
— Дуга? Что такое? Ах, да. Вот она.
Оглянулся — Белой Девы нет. Небо большое, а земля маленькая. Словно островок в море света. На островке темные фигуры-люди… Шевелятся.
— Говорил тебе, не купайся круг полден, бес затреплет.
— Это лихоманка его, тятя, а не бес.
— Трогай!..
— Ты бы лег, Кузьмич, на воз, ежели нездоровится…
— Я лягу. Мне что то в самом деле нездоровится…
* * *
Днем, когда обоз стоял, к больному Кузьмичу пришли баба с мальчиком на руках.
Мальчик с беленькими волосиками. Худенький. В серой запыленной рубашечке. Кузьмич не мог вспомнить, чей он. Так туманилась голова. А Лука стыдливо погладил мальчику волосики заскорузлой рукой:
— Внучек, внучек, внучек.
Ах, это Потапов сынишка, должно быть. Вот и сам Потап, лохматый, «Мохор». Да, да, тот самый мальчик, его Васькой зовут. Он просил как то вечером, на стану, в те первые дни, когда только что выехали из Вязовки:
— Мама, дай молочка.
А мать:
— Подожди, не подоили бычка.
Тогда нехотя все засмеялись. Васька помолчал, подумал и сказал:
— Дои скорее.
— Сейчас, сынок, сейчас….
— Что же теперь с ним?
— Бог ее знает, с пищи штоль? Ну, только прямо кровью исходит. Ослабел, аж на ножках не стоит….
Мать угрюмо посмотрела на Кузьмича.
— Как быть?
— Вот и еще идет смерть, — подумал Кузьмич.
— Какими средствами такую болесть лечат? Тебе, чать, по книгам то известно, — забубнил Потап.
— Отвар черничный надо давать.
— Отвар? — Та-ак…
Мать сердито поджала губы. Мальчик заплакал — тихонько, жалобно, и в этом тихом, детском плаче было так много скорби.
Кузьмич молчал. Лука и Потап ждали, что он еще скажет. В стороне свирепо ругались. Лука вздохнул и промолвил:
Читать дальше



![Фёдор Сологуб - Царица поцелуев. Сказки для взрослых [сборник litres]](/books/396903/fedor-sologub-carica-poceluev-skazki-dlya-vzroslyh-thumb.webp)