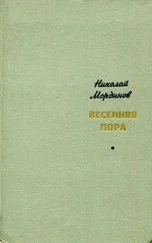Первый, громко чертыхаясь, покатил в санях к озеру. А второй, победоносно откашливаясь и побрякивая зубами, заспешил к дому.
Когда втаскивали Фокина в самолет, он сдержал стон и, сморщив лицо, собираясь не то заплакать, не то засмеяться, уныло сказал:
— Вы-то завтра на большом самолете полетите, со всеми удобствами. А как я доберусь, еще неизвестно…
Возвращаясь с озера, Вася Губин с девушками подсели к Тимофею Титову и бойкой рысью поехали в поселок.
— Не вызывает во мне доверия этот ваш Егор Джергеев, — шагая рядом с Маркиным, говорил Тогойкин. — Мне кажется, что этот человек прикрывает свою гнилую сущность набором громких, трескучих фраз.
Они шли не спеша и разговаривали. И, уже подходя к воротам клуба, Маркин сказал:
— Ты, молодец, сразу почуял, что это за тип. Но и мы не лыком шиты, тоже кое-чего видим…
Пока Тогойкин с товарищами ездили на озеро, у Калмыкова началась агония и его перенесли в смежную комнату. Все медики ушли туда. Остальные собрались возле Иванова и Попова. Маркин и Титов тоже были здесь.
Там умирал человек. Умирал солдат…
Слышался тонкий звон каких-то легких инструментов, доносился шепот врачей, ухо едва улавливало их мягкие шаги.
Нельзя было громко разговаривать, но неловко было и молчать. И потому люди тихо переговаривались. Впрочем, все они, пережившие вместе эти трудные дни, понимали друг друга и без слов. Стоило Александру Попову подумать: «Хорошо, что нет Фокина», как Иван Васильевич Иванов, взглянув на него, подумал о том же.
В полночь вышла к ним Анна Алексеевна и, глядя куда-то в пространство, поверх голов, сказала тихим, но твердым голосом:
— Товарищ Калмыков скончался…
Все, кто мог держаться на ногах, встали и склонили головы.
И в это время где-то в задних комнатах клуба вдруг громко заговорило радио. Сначала людям захотелось поскорее пойти и выключить репродуктор, так некстати заговоривший в этот момент. Но, услышав знакомый и такой необходимый каждому голос диктора, люди даже не заметили, как поднялись их головы, как посветлели их лица.
Жизнь, как всегда, одерживала верх над смертью.
Так прошел двенадцатый день.
В 1943 году у нас в Якутске рассказывали об одном пареньке, который уцелел при аварии упавшего в тайге самолета, с большими трудностями добрался на самодельных лыжах до населенных мест и с помощью колхозников спас оставшихся в живых товарищей по злосчастному рейсу.
Много лет спустя случай свел меня с этим человеком, ставшим уже к тому времени известным в наших краях советским работником. Он оказался моим соседом по больничной палате. От рассказа о своем давнем многокилометровом походе через зимнюю тайгу он упорно уклонялся, вовсе не считая его каким-нибудь подвигом. И все же в тоскливые вечерние часы я осторожно выспрашивал его, шаг за шагом восстанавливая все обстоятельства того происшествия.
Сквозь заснеженную таежную чащу пробирается одинокий человек. Его неуклюжие лыжи могут сломаться в любой момент, да и сам он, голодный и до крайности изнуренный, того гляди повалится на снег, чтобы уже больше не подняться…
Принято считать, что в подобных случаях наша суровая якутская зима и наша беспредельная тайга непримиримо враждебны человеку. Но в моем понимании зима вовсе не сопряжена с жестокими муками для человека и со смертью природы. Зима — это пора подготовки к ликующей весне и благодатному лету, к тому же пора, отмеченная своей неповторимой красотой и гордым величием.
В отношениях человека с природой нет и не может быть каких-то особых тягостных периодов. Природа вся целиком, во все времена года неизменно мила сердцу того, кто родился и живет в ее окружении.
Горячая сыновняя любовь к родной природе, к родному краю способствует здоровому нравственному развитию человека, вселяет в него бодрость, побуждает его к творчеству.
В этой повести, основанной на фактическом материале, я, разумеется, кое-что домыслил и представил себе по-своему, но в основном старался не отступать от правды реальных событий. Больше всего мне хотелось выразить свое преклонение перед человеческим мужеством и свою любовь к родной якутской природе. Насколько мне удалось эту задачу выполнить, пусть судит читатель.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
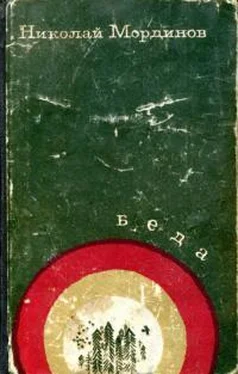

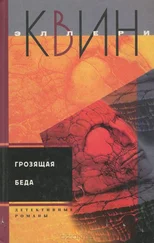




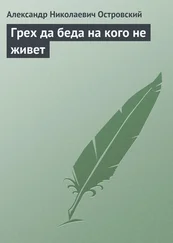
![Наталья Шульга - Еда не беда [Как перестать разочаровываться в диетах и получить стойкий результат] [litres]](/books/397099/natalya-shulga-eda-ne-beda-kak-perestat-razocharo-thumb.webp)