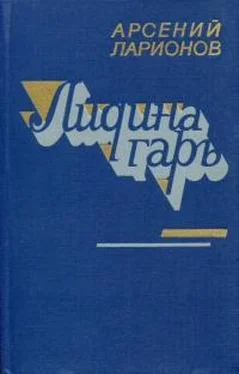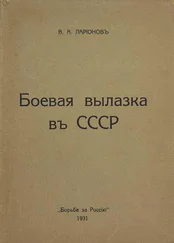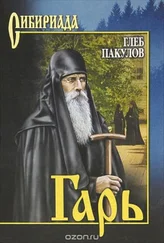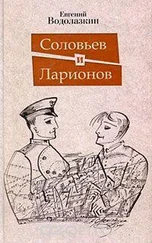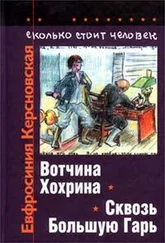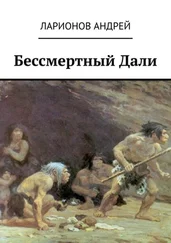— От реки Мезени, от Лышегорья ясного к Питеру-городу пролегла ты, всем дорогам старшая, большая путь-дороженька, Печорский тракт. Ты скажи, дороженька потоптанная, скажи не утаи, где скрылся, затерялся мой миленький, мой разнесчастный голубеюшко. Какой ворог сокрыл его… Отыщи, дороженька. Моя тоска кромешная, господи-беда, тяжелая, а твоя сила, дороженька, могучая да справедливая, на радость и во утеху нам, страдальцам. Дай свой добрый знак, укажи и освободи, путь-дороженька потоптанная, моего миленького, моего голубеюшку, Димитрия Ивановича, освободи от всех пеших, всех конных, всех лихих, всех воинственных, всех страшных, всех робких, всех душевных и всяких других ворогов, кто держит Димитрия Ивановича в своих руках и ко мне не пускает…
А сама слезами зальется, припадет головой к проезжей колее да заголосит полным голосом надрывно, жутко.
— Освободи и принеси его ко мне, дороженька — ясный свет. Буду я любить его, разлюбезного моего, буду любить и беречь, а тебя, дороженька, благодарить. Господи-беда, рабой твоей вечной стану, дороженька, в ночи и с полуночи, в часу и в получасье, во сне и наяву добро твое помнить буду. И весь белый песок со всей реки нашей Мезени переношу в подоле и засыплю все раны твои, дороженька потоптанная, все выбоины твои и боли твои залечу… Будешь ты опять мягка и покойна, и колеи твои бегущие да могучие тяжести колес не почувствуют… Только верни его, не держи в далях своих нескончаемых, верни моего голубеюшку, Димитрия Ивановича, усладу мою разъединственную…
И так жалобно она просила, так тревожно звала, что от мольбы ее сердечной и неуемной у людей душу переворачивало и мурашки по спине шли. Бросятся бабы ее уговаривать, утешать, уведут домой, успокоят. Затихнет она на день-два. А там, глядишь, к реке пойдет.
Спустится с угора, сядет на большой валун у самой воды и глядит-глядит в журчащий по камням поток, как в зеркало, будто кого-то высмотреть хочет… И начнет опять причитать со стоном да мольбой так, что эхо, стремглав, страданиями ее воздух наполнит:
— О, белая лебедушка, слетай в чистое поле, за синее море, за крутые горы, за темные леса, за зыбучие болота, отыщи моего милого, сердечного, моего Димитрия Ивановича, — протяжно зовет она. — Скажи ему, лебедушка, что не могу я ни жить, ни быть, ни пить, ни есть — все на уме его держу, господи-беда. Лишь он милее свету белого, милее солнца теплого, милее луны прекрасной, милее всех и даже милее сна моего сладкого во всякое время и во всякий час. И нет мне больше жизни без него ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером… Тоска меня съедает и тело сушит. О-о-о, господи-беда…
И так часами она стенает и причитает, пока силы совсем не покинут и не падет она в полном изнеможении, прокричав весь голос свой, но так и не дождавшись ответа от Дмитрия Ивановича. В селе все чаще стали беспокоиться, как бы она руки на себя не наложила. И увидев в очередной раз Лиду у реки, ребятишки спешно летели к Илье Ануфриевичу…
Дом Лида запустила, хозяйские дела забросила, скотина на дворе стояла некормленая. Родня с ней совсем измучилась. И с наступлением холодов отец взял ее к себе, чтоб сообща, всей семьей, помочь дочери преодолеть недуг.
Однако Лида потихоньку сбегала в свой нетопленый дом, закрывалась в комнате Дмитрия Ивановича и сутками просиживала одна, обложившись со всех сторон книгами Шенберева — единственное напоминание, оставшееся о его жизни в доме. После смерти Дмитрия Ивановича Лида аккуратно уложила книги в большие ящики. Илья Ануфриевич все ждал, что кто-нибудь из Шенберевых попросит выслать их. Но время шло, а никто не просил.
Лида открывала ящики и выбирала те книги, что когда-то зимними, тягучими вечерами Дмитрий Иванович любил читать ей вслух. Она нежно гладила обложки книг, словно самого Дмитрия Ивановича хотела приласкать. Отыскивала в них памятные страницы.
— «Вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, — произнесла она полушепотом. — Все душу томную живит полумучительной отрадой…»
Она услышала, будто вслед за ней, повторяя слова, звучит негромкий, приглушенно потрескивающий голос Дмитрия Ивановича. Прислушалась, голос пропал, помолчала и снова продолжила:
— «И стол с померкшею лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет…»
Ей показалось, что голос его звучит все явственнее и настойчивее. Она невольно стала читать чуть медленнее и глуше, чтобы лучше слышать его…
Читать дальше