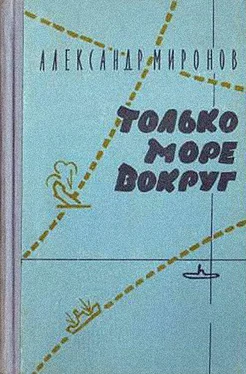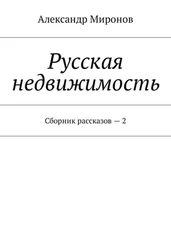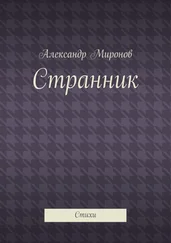Стало и больно и душно: накануне победы… Но упрека собственной совести не почувствовал Маркевич: так, как с ними, могло быть со всеми, кто находился на транспорте, которого прикрыл «Коммунар».
— Флаг принесите, а брезент долой, — глухо сказал он подошедшему помполиту.
С моря донесся короткий гудок, и, подняв голову, Алексей увидел тральщик, полным ходом приближающийся к судну. Он сразу узнал по номеру на его носу гвардейский корабль Виктора Виноградова и поднялся на спардек. Тральщик ловко подошел к борту, и матросы подали швартовые концы. Виноградов перевесился через поручни мостика:
— Алексей Александрович, жив?
— Спешить некуда, — невесело ответил Маркевич. — Ты за нами?
— Приказ командующего. Своим ходом двигаться сможешь?
— Крепко сижу. Без пластыря сниматься нельзя.
— Ну, так давай ко мне на борт.
И не удержавшись, воскликнул:
— Здо́рово, Леша! О вас весь флот уже говорит. Молодцы!
Маркевич не ответил, махнул рукой. Повернулся к Носикову и приказал:
— Переводите команду на тральщик. С судна забрать все ценное, а команде личные вещи.
Он и сам пошел к трапу, к своей каюте, но дойти не успел. В дальнем конце спардека, из двери, ведущей в машинное отделение, показался сначала Егор Матвеевич Закимовский, а потом черный от угольной пыли Петр Иглин с какою-то ношей на руках. Они приближались медленно и сурово, и лица у обоих были такие потрясенные, что Маркевич, холодея от внезапной догадки, бросился к ним.
Иглин бережно протянул ему свою ношу. Егор Матвеевич опустил красные, воспаленные глаза. Коля Ушеренко сдавленно вскрикнул и пошатнулся. Ефим Борисович медленно снял с головы фуражку.
На руках кочегара, маленький, худенький, как подросток, лежал Григорий Никанорович Симаков.
Алексей проснулся с необыкновенным, окрыляющим ощущением тишины. Странное было это ощущение: словно тишина переполнила и его самого, и каюту, и город, и даже весь мир, — словно нет, и не может быть ни начала и ни конца ее. И не просто тишина, а какая-то особенная, непередаваемая. Можно взять ее в руки и почувствовать на своих руках, можно лечь на нее и поплыть, плавно покачиваясь, как на ласковых морских волнах.
Он прислушался: так ли это? Где-то мерно и монотонно долбила по железу капель, где-то очень далеко, быть может, на станционной пристани непривычно долго проревел то ли пароход, то ли паровоз. За распахнутым иллюминатором что-то изредка хлопало на несильном ветру.
Но и эти звуки почему-то не развеяли и не нарушили странной легкости во всем теле и почти чувственного наслаждения той, особенной тишиной. И Маркевич открыл глаза.
Яркий столб еще раннего солнца врывался через круглый иллюминатор в каюту, упираясь в выбеленную масляной краской стену. Под столбом, на диване, разметался во сне Арсентьев. Густые кольца волос спутались на его голове, цыганские глаза спрятались за плотно сомкнутыми веками, губы были сжаты упрямо и вызывающе, будто все еще намерен он продолжать их вчерашний спор. И увидев Арсентьева, вспомнив этот спор, Алексей в ту же минуту вспомнил и все остальное.
Ощущение тишины сразу распалось, развеялось, но состояние светлой радости и покоя не покинуло Маркевича. Он тихонько потянулся к столу за папиросой, чиркнул спичку, прикурил и, удобнее устроившись спиной на подушке, опять закрыл глаза. Можно встать и одеться, можно снова заснуть, а можно и просто лежать вот так, дымя папиросой и не думая ни о чем: все, конец, и сегодня начинается новая жизнь!
Но не думать нельзя, из этого ничего не получится, а думалось об одном: что же делать дальше? Сколько радостей сейчас и по всей советской земле, и во всем мире, а едва ли найдется человек, который не задавал бы себе этот вопрос. Для Арсентьева, судя по его словам, все и ясно, и предрешено: «Коммунар» настолько пострадал от взрыва торпеды, что нет смысла ремонтировать его. Пожалуй, напрасно и прибуксировали судно в Архангельск, — разве что пойдет на слом, на разборку для мартенов. Значит, незачем и цепляться за него, надо переходить на другие корабли.
А Маркевич — нет, не может так думать, вся душа переворачивается от такой мысли. «Коммунара» на слом? Ни за что! Вот и спорили вчера чуть не весь вечер, и едва не разругались напоследок, да так и уснули один на койке, другой на диване, не договорившись ни о чем. Денька, Данька, Даниил ты мой Иванович, если б ты только знал, как он дорог мне, этот мертвый, «бросовый», как ты говорил, пароход! И не только мне, но и Иглину, и Егору Матвеевичу Закимвскому, и Ефиму Борисовичу Носикову, и Коле Ушеренко. Все хорошее и все самое трудное пережили и перестрадали мы на нем. Потеряли и Якова, и Григория Никаноровича, и боцмана Яблокова… Вот, прислушайся, не их ли шаги звучат за дверью, не они ли и дышат там, и думают так же, как я?..
Читать дальше