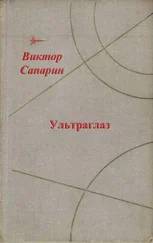Друзьям перед отъездом он сказал, что станет работать от рассвета и до заката. Это было, конечно, преувеличение, он не поднимался раньше восьми, иногда и в девять еще спал, но работал все-таки каждый день и даже уставал, а усталость приносила ему удовлетворение. Все шло, так сказать, по плану, сомнения Мишакова не мучили.
В деревне закончился сенокос — время прекрасной, но изнурительной работы, когда людям приходилось вставать затемно, косить по росе, а потом сушить скошенную траву, шевеля ее на лугах; складывать сено в копешки, свозить или переносить копешки на шестах в подобранное заранее место, ставить похожие на башни стога. Но вот последний стог задрал в небо свой шест, и голубые луга опустели, ни подвод на дорогах, ни дыма от костров, только на опушках леса, в малинниках, раздавались призывные человеческие голоса.
За малиной ходили старухи да дети. Взрослым сразу же нашлась другая колхозная работа, и деревня по-прежнему с утра и до вечера была безлюдной. Лишь иногда появлялись на улицах доярки, идущие домой отдыхать: ферма была близко.
Одна из доярок, Марфуша Силуянова, чаще всего попадалась Мишакову на глаза. Она была соседкой Татьяны, и Мишаков чуть ли не каждый день видел ее сидящей на завалинке, под окнами своей избы. Ходить Марфуша, видно, стеснялась: она была хроменькой, по-деревенски — уродицей. Но, пожалуй, не хромота была главным несчастьем двадцатидвухлетней соседки. Хромых женщин зачастую выручает красивое лицо. У Марфуши, ей на горе, лицо было удивительно непривлекательным: острый нос, вытянутый книзу подбородок, тонкие, прорезанные на ровном месте губы. Взглянув на Марфушу первый раз, Мишаков сразу же отвел взгляд и подумал, что именно такой он теперь представляет сказочную кикимору.
Мишаков жалел соседку и, здороваясь с ней, старался держаться поприветливее. Как-то он высыпал ей на колени горсть конфет, она удивленно распахнула рот, и лицо ее сразу вспыхнуло, да так густо и пламенно, что у Мишакова осталось ощущение неловкости, и к нему подкралась боязнь, как бы Марфуша не подумала, что он пытается за ней ухаживать.
Дня через три Мишаков опять увидел ее на завалинке. Поздоровавшись с ней, он хотел пройти мимо, когда она робко сказала:
— Борис Лексеич… посидели бы со мной.
Мишаков остановился и неуверенно посмотрел на Марфушу.
— А в самом деле, почему и не посидеть?
— А то все рисуете, рисуете! — обрадовалась Марфуша, и руки ее, не находя места, принялись быстро поправлять косынку, кофточку и разглаживать на коленях юбку.
— Да, все рисую и рисую, — согласился Мишаков. Он сел на завалинку, поставив между собой и уродицей этюдник. — Надоело… ужас!
— Пальцы устали, Борис Лексеич? — ласково спросила Марфуша.
— Почему пальцы? Вообще.
— А у меня так болят пальцы, — пожаловалась Марфуша. — Пока своих коровушек выдою… Одиннадцать штук у меня. Каждый день три раза.
Мишаков почувствовал, что от Марфуши сладковато пахнет молоком и коровником.
— Трудная у тебя работа, — сказал он.
— У вас труднее, Борис Лексеич. Рисовать не каждый умеет, а коровенок доить… Вон вы как председателя нашего нарисовали!
— Ты видела?
— Ходила смотреть. С ордена-ами! — почтительно произнесла Марфуша. Она кинула на Мишакова робкий взгляд и спросила:
— А вы всех рисовать можете, Борис Лексеич?
— Всех, Марфуша, не нарисуешь.
— Ну, а меня… вы бы, может, согласились? — прошептала она.
— Тебя? — удивился Мишаков. — Но ведь это отнимет много времени. Тебе лучше бы сфотографироваться съездить. И быстро и хорошо.
— Нет, нет, — отказалась Марфуша, и в глазах у нее промелькнул испуг. — Карточек я не хочу. Сделайте мне картину, Борис Лексеич, чтобы я красивая была! — взмолилась она.
Не сдержав усмешки, Мишаков спросил:
— Послушай, ты часто врешь?
— Я?.. — Марфуша растерялась. Она была обижена, но не могла это ему высказать. — Борис Лексеич… Да никогда! Чтобы врать… Да я!..
— Зачем же меня врать заставляешь?
— Я заставляю?
У Мишакова мелькнуло, что уродица не поймет его. Он пожалел, что подсел к ней, и, не глядя на нее, пробормотал:
— Мне показалось, что тебе не очень-то нужна такая картина…
— Нужна, нужна, ой, как нужна! — воскликнула Марфуша. — Нарисуйте, Борис Лексеич!
— Ну что ж, если ты горишь таким желанием… — сказал Мишаков, досадуя на себя.
«Ведь все равно рисовать эту кикимору не буду! — подумал он. — Как ее рисовать-то…» — Только придется тебе подождать, пока я Веру Панкратову не закончу.
Читать дальше
![Виктор Логинов К отцу [сборник] обложка книги](/books/394263/viktor-loginov-k-otcu-sbornik-cover.webp)

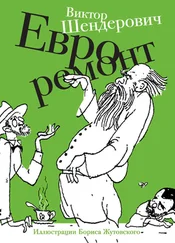


![Святослав Логинов - Картежник [сборник]](/books/175766/svyatoslav-loginov-kartezhnik-sbornik-thumb.webp)