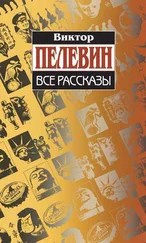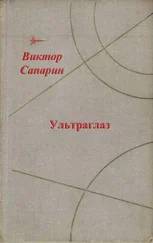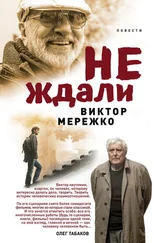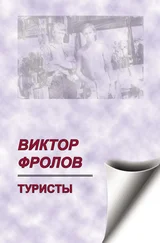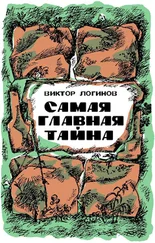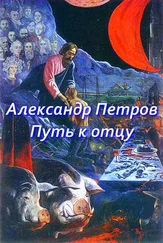В это мгновение Теплихин почувствовал, как по щекам у него покатились слезы. Он отвернулся, провел ладонью по лицу.
— Плачь, соколик, не стесняйся, — вдруг подобрев, сказала Семеновна. — Папаша твой не плакал. Слез у него не было, высохли в бою. Ни слезинки не выжал. А ты плачь, тебе можно.
Теплихин вскочил и, сдерживая рыдания, натыкаясь на печку, на дверной косяк, выбежал во двор.
Через минуту Семеновна услыхала звуки, похожие на удары топориком. Она высунулась в дверь. Увидела: Теплихин стоял на коленях, согнувшись, как от резкой боли в животе. Косарем, которым она щипала лучину, он кромсал березовую чурку и, всхлипывая, как будто икая, повторял:
— Прости, батя! Батя, прости!..
Старая женщина в щель перекрестила Теплихина и тихо прикрыла дверь.
Полюбить хочется…
Рассказ
Татьяна Мишакова прочитала письмо и побежала за водой на колодец. Скоро вся деревня знала, что к агрономше приезжает племянник, да не простой человек, а художник. Такое в деревне случалось первый раз. Председатель колхоза разрешил Татьяне взять подводу, и она, вымыв полы в избе, поехала встречать племянника на станцию. За околицей ее догнала студентка Верка Панкратова.
— Тетя Таня, можно и мне с вами?..
— Садись. Места не просидишь.
После Татьяна каялась, что взяла студентку. Племянник, Борис Алексеевич Мишаков, всю обратную дорогу проговорил с Веркой. И сели-то они рядышком, словно были знакомы сто лет. Татьяне было обидно до слез…
Но обижалась тетка не долго. Утром племянник усадил ее возле озаренного солнцем окна. На плечи накинул цветастый шерстяной полушалок. На подоконник поставил в кувшине букет маков. И сказал, чтобы она все время улыбалась, вспоминая что-нибудь хорошее. Улыбаться Татьяна разучилась еще во время войны, но тут пришлось. «Так, так, — поддержал племянник, — у вас, тетушка, прорезывается улыбка Моны Лизы». Татьяна ничего не понимала и застенчиво скалила зубы.
Племянник рисовал часа два. Татьяна взопрела вся, больше от волнения, чем от жары. А когда он предложил посмотреть, она пошла тихонько и на цыпочках, словно боясь кого-то спугнуть.
— Ну что? — небрежно спросил племянник.
— Ой, — воскликнула она, — как барыня!..
Племянник улыбнулся.
— Колхозница наших дней. Чем она не барыня?
Татьяна покачала головой, но ничего не сказала больше; она была так довольна, что не находила слов.
Целый день к Татьяне бегали соседки, любовались портретом, с завистью поглядывали на Мишакова. Вечером, как говорится, нанес визит и сам председатель.
— Привет искусству, — сказал он и, разглядывая портрет агрономши, осторожно осведомился: — Это что же… в испанском стиле, разрешите спросить?
— Стиль наш, русский, — Мишаков помолчал немного и дотронулся до пиджака председателя. — Здесь пошли бы вам ордена.
— Как же, имеются, — быстро отозвался председатель.
— Тогда в любое время. В новом костюме. При всех регалиях. С удовольствием.
Председатель смутился.
— Боюсь вам обещать… времени-то у меня…
— Министры позируют, батенька мой, — сказал Мишаков. — Государственные деятели.
— Есть.
Поздно вечером Мишаков лежал в сенях и думал о Вере Панкратовой, которая обещала завтра пойти с ним на этюды.
Мишаков любил писать валки сухого сена, копны, стога. Хорошо получались у него белые облака над полем и облака, отраженные в воде. За пейзажи Мишакова всегда хвалили в училище. Да жаль, что только за пейзажи. Мишаков мечтал стать известным портретистом. Он рисовал портреты с детства и на конкурс в училище послал двадцать один портрет. Смешно конечно, что именно двадцать один… Профессор Павловский тогда сказал: «Что-то есть». Больше он ничего не говорил о его портретах вплоть до выпуска, когда Мишаков — так, между прочим — показал ему новые работы. «Что-то есть, — повторил профессор. — Может быть, в этом ваше будущее». Этого Мишакову было достаточно. Он не утаил оценку профессора, и все посчитали, что мэтр его благословил. В одной газете появилась статья, где Мишаков был назван портретистом, хотя портретов он не выставлял. Ему еще нечего было выставлять. Автор статьи не учел эту немаловажную деталь. Опровержения, конечно, не последовало, но Мишакову все равно было неловко. Он объявил друзьям, что едет к тетке, все лето просидит в деревне и что-нибудь да привезет оттуда.
И вот теперь, через две недели после приезда, Мишаков был уже уверен, что привезет непременно. Он неторопливо писал Веру Панкратову, втайне решив выдать ее за молодую жизнерадостную колхозницу. Вера легко смеялась, нужно было только показать ей палец, и Мишаков с удовольствием выписывал на ее румяных щеках ослепительные ямочки. На этот портрет он очень рассчитывал. А потом он думал еще разок, уже по-настоящему, написать тетку, которую в деревне звали агрономшей, потому что она когда-то училась на краткосрочных агрономических курсах. В лице у нее Мишаков разглядел что-то интеллигентное, и название будущего портрета пришло само собой, как говорится, из жизни: «Колхозная агрономша…»
Читать дальше
![Виктор Логинов К отцу [сборник] обложка книги](/books/394263/viktor-loginov-k-otcu-sbornik-cover.webp)
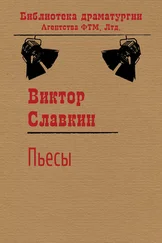
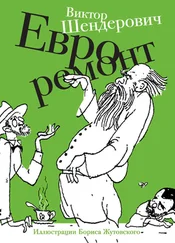
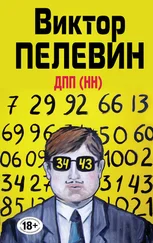
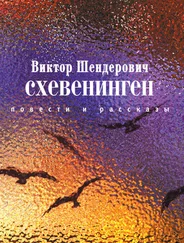
![Святослав Логинов - Картежник [сборник]](/books/175766/svyatoslav-loginov-kartezhnik-sbornik-thumb.webp)