— Согласен, достойны. Какие у тебя отношения с Булатовым?
— Неплохие.
— Сработались?
— Как не сработаться, если на наши шеи надето одно ярмо? Тянем воз дружно, не понукаем друг друга…
— Хорошо. Подойдем к вопросу с другой стороны… Работая рядом с Булатовым, под его руководством, ты испытываешь удовлетворение?
— Не во всем, конечно, но в основном да. Человек он энергичный, неплохой специалист, фанатично предан делу, требовательный, не любит тех, кто с прохладцей относится к горячему металлу.
— Разве сейчас, в век научно-технической революции, всех достоинств, перечисленных тобой, достаточно для того, чтобы быть хорошим директором?
— Нет, не было и не будет людей без недостатков! У меня, например, их куда больше, чем у Булатова.
— А как он относится к твоим недостаткам?
На прямой мой вопрос Воронков ответил уклончиво:
— Трудно ему работать со мной… Не умею брать за горло начальников цехов, выколачивать из них план. Булатов называет меня мягкотелым интеллигентом.
— Тебя, человека деликатного, думающего инженера, инженера-партийца, называют мягкотелым интеллигентом… Булатов, как я понял, нисколько не заботится о том, чтобы у вас не было конфликтов. Тебе одному приходится платить за мир!
Не возразил. И не подтвердил моей догадки.
— Теперь, — говорю я, — мне понятно, почему у тебя нет конфликта с Булатовым. Тишь да гладь между вами ты завоевал ценой безоговорочного подчинения.
— Давно и хорошо ты меня знаешь, а подозреваешь в немыслимых грехах. Ничего похожего на то, что ты сказал, не было, нет, не будет!.. В чем дело, батько? Почему тебе не нравится моя мирная жизнь с Булатовым?
— Нет у вас мира! — воскликнул я в сердцах. — И не может быть…
— Ошибаешься. Вот уже третий год, как я работаю с Булатовым. И никогда и никому мы не жаловались друг на друга. С тех пор, как нас назначили руководителями, комбинат выполняет и перевыполняет планы!
— Надеешься, что выполнение и перевыполнение планов затушует, смажет противоречия между тобой и Булатовым?
Митяй взглянул на меня с видом великомученика:
— Нет у нас никаких противоречий… И совесть велит мне и дальше быть таким, какой я есть.
— Между прочим, что такое совесть, Митяй? Как ты ее толкуешь?
— На этот вопрос отвечу твоими же словами, давным-давно запавшими мне в душу. Совесть — это наша нравственность. Так говорил ты лет двадцать назад…
— Все правильно, говорил. Итак, ты, Воронков, высоконравственная личность. И поэтому не желаешь, не можешь дурно говорить о других и хорошо о себе. Но тебе, высоконравственной личности, стыдно и больно, что ты умнее и талантливее своего непосредственного начальника, и ты изо всех сил стараешься приглушить свои способности. Главные твои усилия сейчас направлены на то, чтобы идти позади Булатова, след в след, думать так, как думает он, говорить языком Булатова, смотреть на комбинат глазами Булатова.
Воронков неожиданно для меня не стал возражать. Согласился с моими словами:
— Да, в основном все так и есть. А почему? Потому, что в нашем содружестве с Булатовым главный человек — он, Андрей Андреевич. Директор отвечает за комбинат. Отвечает тот, кто запевала в коллективе. Пока ты не солист в хоре, ты не должен повышать голоса, обязан только подпевать запевале…
Вот оно как… Я глянул на часы. Начали мы разговор с Митяем в семь, кончаем в девять. Но так ни до чего и не договорились. Почему он неискренен в разговоре о Булатове? Мужества не хватает? Принципиальности? Боится, что в министерстве могут заподозрить его в подсиживании вышестоящего, в покушении на директорский пост? А может быть, он убежден, что Булатов на данном этапе самый лучший директор из возможных.
Так или иначе, но я держусь своего курса: ни слова на веру, ни слова против совести:
— С твоим мнением я всегда считался, — сказал Митяй, не глядя мне в глаза, густо краснея. — Но сейчас… сейчас я решительно не согласен с тобой. Булатов пользуется доверием в министерстве, в обкоме. И я обязан поддерживать его. Кстати, и ты когда-то хорошо относился к нему. Очень даже хорошо.
Тормози пустой разговор, Голота!
Мы церемонно, как чужие, распрощались и разошлись.
Были уже сумерки, тихие, теплые. Сильно пахли какие-то цветы на клумбе под моим окном. Первая звезда, крупная, зеленовато-серебристая, прорезалась на краю чистого неба. Ей нет дела до обиженного Колокольникова, до знаменитого Булатова, до таинственного Митяя, до секретаря обкома, погруженного в невеселые размышления.
Читать дальше
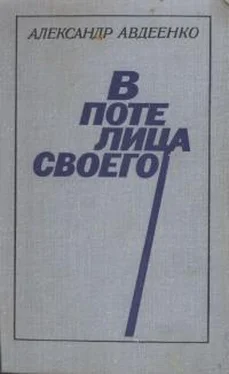

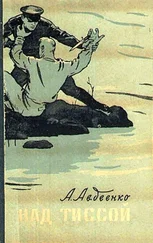


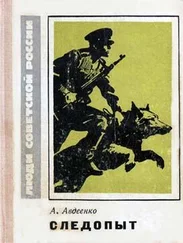
![Александра Авдеенко - Бойся своих желаний [СИ]](/books/416312/aleksandra-avdeenko-bojsya-svoih-zhelanij-si-thumb.webp)



