В три часа в приоткрытую дверь его номера кто-то стукнул.
— Я видела из окна, как ты шел, — сказала Лиза.
— Садись.
— Не спится? И почему один?
— Так…
— Пришла помешать твоему счастью.
— Каким же способом? — спросил Егор.
— Самым простым. Не холодеть…
— Я женюсь, ты знаешь?
— Но какое мне до этого дело? Какое мне дело, кто тебя будет обстирывать? Хороший мужчина принадлежит всем. Ты не дрожишь, что она войдет? Господи, какие мужики дураки. Еще не началось, а уже кончилось. Не слушай, не слушай меня! Дай мне какой-нибудь журнал, и я уйду. В Москве будь, пожалуйста, моим гостем. Это безопасно. Ничего я не хочу от тебя, живи только и будь здоров, изредка тебя видеть можно ведь? Будут дети — береги детей, кому мы нужны, кроме детей, вот кто истинно в нас нуждается, а больше мы никому не нужны… Целую за ушко. — Она встала и выключила свет. — Не хочу быть никому в тягость. Страдаю. Не от тебя, не от тебя. Но страдаю ужасно. И не разбить мне вдребезги свое одиночество и отчаяние. И пусть, — сказала она уже от двери. — И пусть — услышит ли господь мои молитвы? — пусть будут счастливы все, все твои друзья…
Егору стало жалко ее, но теперь он не мог украсть у жизни нескольких минут, приносивших ему когда-то с Лизой несказанное счастье…
Часть третья
ЖИЗНЕННАЯ ЛАМПАДА
. . . . . . . . . мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменили?
Е. А. Боратынский
Глава первая
БЛАГОРОДНЫЙ НАПИТОК
1
Егор увидел ее во сне, счастье было долгим, мучительным, и, когда открыл в темноте глаза, горько удивился, что нет ни снега, ни сибирских домишек, ни ее, — он снова один на своей кушетке. Счастье перешло в страдание, и он не представлял, как ему жить дальше. Еще не пробило на старинных тестевых часах и четырех. Он зажег лампу и сел к столу писать ей письмо. Он начал с тех непридуманных слов, которые глухим криком вырвались из него, едва он проснулся: «Как же я теперь буду жить без тебя?!»
2
И как же это странно! — ее не было, не было с ним раньше. Можно было бы состариться, умереть, да так никогда и не узнать, что жила на свете такая волшебная женщина. Даже в кино ее не придумаешь. Еще в марте он укладывался в дорогу, жалел Наташу, потом на юге снимался, вечерами играл в преферанс, и ничто не предсказывало перемен в его жизни.
И вдруг: «Я к тебе долго шла и пришла…»
3
Съемки в Херсоне заканчивались в самом начале мая, потом перевезли бы их в Керчь, потом он бы спокойно улетел в Москву, и сезон этот мелькнул бы в его судьбе подобно многим другим. Из Керчи намечал он еще заскочить в гости к Дмитрию.
Со съемок их привозили к вечеру, Егор поднимался в ресторан гостиницы, ужинал и запирался у себя в номере. Кому писать на листочках с силуэтом римского отеля? о чем? Все, кажется, уже написал. Нечего больше. Сидел в кресле у стола до самого поздна и перебирал свои прошлые дни. Тикал будильник, который Егор возил с собой. Целый день крутились у камеры, спорили, говорили о том, о сем, а едва закроешься один — душа вспомнит все свое. Или в час, когда не боязно нарушить тишину соседнего номера, брал он свою спутницу-гитару и тихо пел один романс за другим и не мог уже остановиться; тогда казалось, сколько чувства еще в нем — кому передать? кого растрогать или успокоить? Или пел песенку про гримерную, которую сочинили актрисы:
В этой комнате десять столиков,
Десять талий, толстых и тоненьких.
В этой комнате шум не кончается,
В этой комнате что не случается.
Иногда перед сном он гулял по Херсону с Владиславом.
— Так хорошо мы здесь с тобой живем, — говорил тот. — Даже в Москве я не бываю так празднично счастлив, как здесь. Одиночество иногда очень полезно. Зачем люди так долго живут вместе? Не лучше ли, думаю порой, жить одному?
Перед гостиницей они еще раз любовались замирающим городом.
— Запоминайте, господа, этот вечер, — прощался Владислав. — Жизни у нас так мало… Вот, видите, мама ведет девочку. Ей лет десять. Она еще будет жить в этом мире, на звезды поглядывать, а нас уже может не быть. Я всегда об этом думаю. Время! Запоминайте вечер.
4
«Пропадаю… Заснул с этим чувством, проснулся с ним; днем это же чувство… И так уже много-много недель… Остановился. В тридцать-то лет! Только бы в гору, в гору, брать перевал за перевалом… А неохота, не манит вершина, главное — не ма-анит, мне скучно, и я ничего не могу. Перестал удивляться. А я и жил-то, трепыхался и летел оттого, благодаря тому, потому и т. д., что без конца чему-то удивлялся, обманывался, придумывал себе забаву. Это несло меня. Мне хочется жить, когда на сердце есть что-то волшебное. Я любил похныкать (в письмах к друзьям), посамоуничижаться, но сейчас мне в самом деле горько, нехорошо… Пропадаю, пропадаю… И никому не пишу. Про что писать? как мне плохо? Раньше, если писал об этом, то в связи с чем-то, в связи с желаниями, которым что-то мешает. А сейчас ничего, ну ничего ровным счетом! — никаких желаний. Болото. Тихое горе. Разочарование собой. Сколько раз было! Но я знал, за что себя ненавижу. Нынче ничего не знаю. Та-ак… Просто пропадаю. В старое время дневнику своему жаловался. Лень, неохота. Да и где он? — в чемодане где-то в Москве. Эх, Егор! — достукался, додрыгался… Пуст, выхолощен. Уже тихо, без восклицательных знаков, но очень сильно хочется, как-то меланхолично, что ли, навестить Димку, пожить с ним рядом. Все вроде бы нормально: и Херсон, и степи, и на съемочной площадке меня ценят-любят, и женские взгляды, и детки у меня растут, а мысли чик-чик-чик: пропадаю, пропадаю, пропадаю…»
Читать дальше

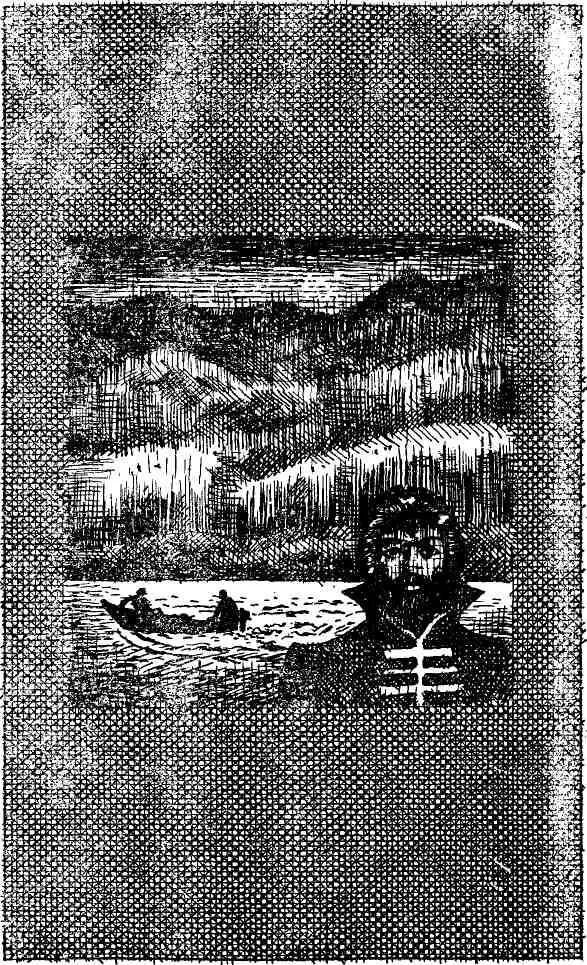








![Виктор Лихоносов - Люблю тебя светло [сборник]](/books/392320/viktor-lihonosov-lyublyu-tebya-svetlo-sbornik-thumb.webp)


