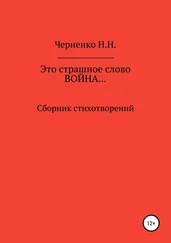ЧЕТВЕРО СУТОК И ВСЯ ЖИЗНЬ
Лицо его будто забыли проявить, и оно так и осталось похожим на негатив: темное, почти коричневое, обветренное, с белыми бесформенными бровями. Волосы — тоже белые, жиденькие. Сам он весь как бы состоял из углов: остро торчали скулы и надбровные дуги, резко очерченные подбородок и нос, худые плечи… Впрочем, это Елена рассмотрела позже. А в первое мгновение увидела одни глубоко запавшие щеки и глаза. «Какой же ты, бедняга, худой», — подумала она, отвечая ему, что да, комнату может сдать, поскольку ей с девочкой достаточно угловой спаленки. По-бабьи тяжело вздохнула, признавая, что он — несимпатичный. И тем острее подступала к сердцу жалость: «Какой худой, как отощал!»
И еще Елена думала о том, что он, военный, командир с тремя кубиками на петлицах, возможно, как и командировочный капитан, что на постое у соседки Тони, будет приносить в дом сухой паек. А военных, говорит Тоня, снабжают хорошо. «Их и надо хорошо кормить, — думает Елена. — Чтобы были силы воевать. А воевать-то, видно, нелегко, все отступаем да отступаем…»
Елена снова вздохнула тяжело.
Война наложила свою суровую печать на всю ее жизнь. И о чем бы Елена ни думала, мысли невольно, как ветви дерева — к стволу, тянулись к фронту. Там, на фронте, дрались и те, кого Елена знала, — парни и мужчины с ее улицы, из ее родного города. И только ее родных и близких не было на фронте.
Елене было тяжело сознавать это, казалось, будто она наполовину отрезана от общей, слитой воедино, трудной военной судьбы всех. И смутное чувство неловкости перед людьми не покидало ее, словно она была виновата, что не имела родных.
Елена часто думала о том, что, если бы у нее не было дочки, она в первые же дни войны ушла бы на фронт.
Командир скинул с плеч вещевой мешок, снял и повесил на прибитую к стене катушку от ниток шинель.
Увидев на скамье вещмешок, Елена снова подумала о сухом пайке: «Хоть бы принес. Я бы влила в чугунок лишних полстакана — всего полстакана! — воды, чтобы выделить капельку супу или каши для Зойки. Зойка совсем исхудала. Кожа на лице такая тонкая и желтая, что иногда становится страшно. И ручонки висят как плети… Ах, если бы он догадался брать сухой паек! Ведь полстакана воды — это совсем немного».
— Умыться не хотите ли? — спохватившись, спросила Елена.
Он рукой пригладил волосы, мотнул головой:
— Нет. Только из санпропускника.
Елена провела его в зал:
— Вот комната ваша.
В полушалке, завязанном на спине, вышла из спальни Зойка. Стояла, с интересом разглядывая командира. Елена подтолкнула ее к двери:
— Иди, иди, доченька, играй в куклы. А я самовар поставлю.
Зойка послушно удалилась в спаленку, а Елена вышла в кухню.
Кухней это называлось условно. Весь дом состоял из одной комнаты, надвое разгороженной тонкими, не достающими до потолка, окрашенными в голубое переборками: крохотную спальнюшку и — чуть побольше — зальце. Третья часть — то, что осталось от входной двери. Это и есть кухня.
Обстановка немудреная. В спальне — древняя, изъеденная жуком-точильщиком деревянная кровать, застланная лоскутным одеялом, столик-косячок в углу с флаконом из-под одеколона «Кармен», в который воткнут бумажный цветок, хромоногий стул да маленький, кованный железом сундучок.
В зале — побогаче. Железная, с узорчатой спинкой кровать убрана парадно: простыня с кружевами, розовое покрывало, подушка с прошвами. На окнах — герань. На выскобленном дожелта полу коврик — хорошо выкипяченный и обшитый по краю алым сатином кусок мешковины. На стене — карточки в общей рамке: Зойки, Елены, Елениной матери, умершей в канун войны, и отца, убитого беляками в последний день штурма под Волочаевкой. А еще — портреты, сделанные с этих карточек: Елениных родителей, самой Елены и Зойки.
Читать дальше







![Надежда Кожушаная - Война [=Нам не дано предугадать…]](/books/72163/nadezhda-kozhushanaya-vojna-nam-ne-dano-predugadat-thumb.webp)