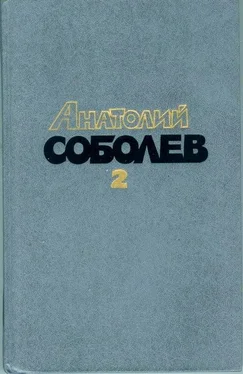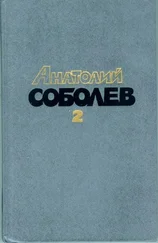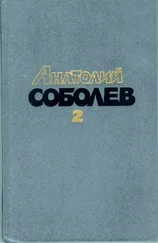Когда Сережа бежал с Антониной Семеновной обратно, ему очередью прошило шинель, будто вилами кто пропорол. Антонина Семеновна втолкнула его в подъезд и прижала грудью к стене. Сережа не знал, как освободиться, и смущенно сопел.
— Ты, молодой человек, должен иметь глаза на затылке, — строго сказала она запыхавшимся голосом.
Сережа покраснел. Его впервые назвали молодым человеком, а главное, через гимнастерку Антонины Семеновны он чувствовал мягкую грудь этой еще в общем-то молодой женщины-майора и ощущал сквозь запах йода, медикаментов и пороховой гари еле уловимый нежный аромат каких-го духов и еще чего-то, чем, видимо, пахнут только женщины. И это сильно смущало его, и он все пытался освободиться из рук Антонины Семеновны. А она, прикрыв его своим крупным и сильным телом, настороженно вслушивалась в перестрелку во дворе, который им предстояло пересечь.
Остальной путь они проделали благополучно. В той самой комнате, где лежали фаустпатроны и мертвые немцы, уже было несколько наших солдат. Они стояли за оконными косяками и вели прицельный огонь по окнам соседнего дома.
Из комнаты роженицы навстречу вышел Буравлев.
— Уже готово, доктор. Я пуповину финкой перерезал. — Старшина извинительно смотрел на врача и вытирал кинжал о рукав телогрейки. — Крупный пацан.
Антонина Семеновна прошла в комнату. Во внезапно наступившем затишье послышался слабый писк, будто скулил маленький щенок. Усатый незнакомый солдат с кровоподтеком на щеке, сидевший на полу в углу и сам себе перевязывающий левую ладонь, сказал удивленно:
— Тут тыщи народу бьют, и вот… рожает. Круговерть.
— Пущай рожает, — ответил старшина, засовывая финку в ножны. — Может, человек родился.
Он сел на стул с красивыми гнутыми ножками и, прислушиваясь к звукам из соседней комнаты, стал выщипывать себе бровь.
Сережа видел, что Буравлев страшно устал. Косая сажень в плечах, по-сибирски неторопливый, обстоятельный, он имел неожиданно тихий голос, а когда задумывался, то щипал себе брови, отчего бровей у него не было…
Это было вчера днем.
А вечером немцы капитулировали, и всю ночь тянулись из города бесконечные колонны пленных.
Сегодня утром вон на той башне с надписью «Der Dotina» подняли флаг Победы, отсалютовали залпом, и вот теперь в городе тихо, не слышно ни стрельбы, ни взрывов.
— Эй, гвардеец! — услыхал Сережа. — Молочка хошь?
Шустрый солдатик протягивал ему котелок с молоком.
— Спасибо, — застеснялся Сережа.
— Спасибо скажешь, когда напьешься.
Сережа взял котелок, и вкус парного молока опять напомнил ему детство, когда жил он у бабушки в деревне. Теперь это все далеко-далеко, за войной. Будто и не было вовсе, будто всю жизнь только и знал он, что воевал, спал в окопах, бегал сквозь огонь, стрелял и поднимался в атаку.
Сережа напился, вернул котелок.
— Спасибо.
— На здоровье.
— А гори-ит, — нараспев произнес солдат в кубанке, глядя на дымные столбы над городом.
— Ну и хрен с ним! — зло откликнулся танкист. — Предлагали замиренье — не схотели. Пущай теперь горит.
— Ну не скажи, — запротестовал солдат в кубанке. — Рабочий люд ведь строил. Хоть немцы, а все ж — своим горбом.
— Я эту Германию, братцы, понять не могу, — сказал связист и оглядел всех светлыми добрыми глазами. — Сколь иду по ней, столь диву даюсь. Земля обихожена, амбары каменные, сносу нет, вековые. Аж завидки берут. Нам бы в колхоз такие! Все с умом построено. Жили бы себе да жили. Нет, мало им! На нас поперли. Сколь крови пустили, батюшки-светы!
— Империализм, — значительно пояснил солдат в кубанке. — Слыхал такое?
— У, гадство! — сплюнул связист.
— Нашего брату полегло тут уйма, — танкист мучительно поморщился, приложил руку к забинтованной голове. Видать, даже сказанное слово вызывало у него боль.
— Ну и их тоже намолотили. — Шустрый солдатик кивнул в сторону немцев.
Все посмотрели на пленных, по-прежнему смирно и покорно сидевших невдалеке.
— Федь, а Федь, ты молочка-то спробуй. А? — снова насел солдатик на друга. Контуженый все так же равнодушно и пусто глядел перед собою.
Два пожилых немца в шляпах, с белыми повязками на рукавах пальто пронесли носилки со стариком. Он был накрыт пятнистым, как шкура леопарда, пледом, лежал с закрытыми глазами, торчал нос белый, неживой. Солдаты молча проводили немцев взглядом.
Подошла еще группа солдат, они расположились неподалеку и тут же посбрасывали с себя амуницию. Оголившись по пояс, солдаты принялись отмывать грязь и копоть, въевшуюся в кожу за дни штурма города.
Читать дальше