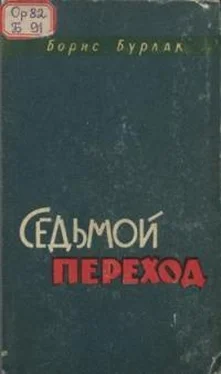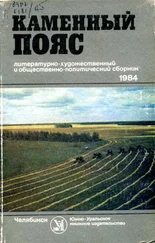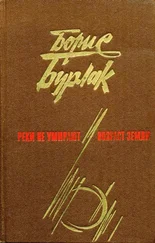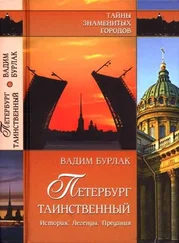— Ну, хватит, давай выкладывай, что у тебя там накопилось,— неожиданно потребовал Никонор Ефимович, отлично зная, что Илья просто так редкий раз заглянет. И приготовился слушать: расставил ноги, облокотился на колени, низко опустил голову, будто заинтересовавшись тем, что делается в курчавом подорожнике. Он слушал, исподволь рассматривая землю, слегка прикрыв глаза прозрачными морщинистыми веками, а рассказывал, глядя в упор на собеседника, как бы желая убедиться, не позевывает ли тот от скуки.
— Встретился сегодня с твоим зятем,— нехотя начал Жилинский.— Что-то сильно сдал Егор Егорович за последний год. Все хандрит. Все жалуется на новое начальство: того нет, другого нет, третьего нет, одни выговора. До Госплана, мол, далеко, до Совета Министров высоко. Нервничает. Спешит с выводами.
— Знаю,— не дослушав, сказал посуровевший Никонор Ефимович. И, изменив своему правилу,— не поднимая головы,— заговорил сердито, глухо: — Мой зятек (уж я-то его насквозь вижу, шельмеца!) привык, больно привык к закрытому распределителю. В том вся причина его хандры. Помнишь, когда в сорок шестом году отменили карточки, народ вздохнул с облегчением, а кое-кому отмена пришлась не по вкусу: не стало никаких доппайков по низким ценам; хочешь, покупай, что надо, на равных основаниях. Егор не любит «равных оснований», уж я его знаю! Министерство для Егора было «закрытым распределителем», он получал оттуда все, что душеньке угодно: и металл, и лес, и цемент. Отказу ни в чем не было. А сейчас у совнархоза, кроме Ярска, забот хоть отбавляй. Надо, вон, новую домну пускать в Ново-Стальске, Медноград достраивать, Южноуральск подымать. Всем этим делом занимались бы три-четыре министерства, совнархоз занимается один. Как тут, скажи на милость, не пожаловаться на судьбу нашему бедному Егору? Вот он и вздыхает по своему покойному ведомству.
— Позволь, Никонор, ты впадаешь в противоречие,— осторожно перебил его Илья Леонтьевич.— В министерстве насчитывалось до полусотни таких трестов, как наш, Ярский, в совнархозе всего их пять...
— Значит, вся пятерня перед глазами у председателя совнархоза: большой палец, указательный, средний, безымянный, мизинец. Догадываешься, к чему клоню? Наш Егор никогда не был средним, тем паче, безымянным или мизинцем, Егор привык быть указательным пальцем правой руки министра. Но всяк считает по-своему: видно, в Южноуральске начали со слабенького мизинца. Стало быть, не скоро дойдет очередь до нашего управляющего.
— Признаюсь, не предполагал, что ты так судишь Егора Егоровича.
— Он-то мне, чай, родня. На днях поругал его эдак иносказательно, для зачина. Смеется: середняки и молодежь тянут свою лямку, а вы, старики, журите их со стороны, заочно! Он у меня шуточками-прибауточками не отделается. Я и прямо могу все выговорить, без иносказания.
Каширин достал из глубокого брючного кармана кожаный кисет с мелко нарезанным самосадом, оторвал от сложенного гармошкой газетного листа прямоугольный лоскуток, туго свернул папиросу, тщательно вставил ее в яшмовый мундштук, чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся. Все это он проделал степенно, неторопливо, будто стараясь выиграть лишнюю минуту перед курением.
— Доберусь и до младшего зятя. С Егором еще полбеды, а вот Родион чуть ли не целую теорию развел. Ни с кем считаться не желает. Как тебе нравится,— собственную жену вгорячах назвал ревизионисткой! А? До чего дошел шельмец со своим упрямством. И откуда, скажи на милость, у человека, выросшего в холщовых пеленках, эдакие мыслишки?
Илья Леонтьевич выразительно пожал плечами. Каширин, старый партиец, всегда разговаривал с ним, беспартийным инженером, как с самым близким единомышленником: ни разу за все время их бескорыстной дружбы Никонор ни единым словом не подчеркнул своего особого положения среди людей.
— Не знаешь? И для меня это запутанный кроссворд, никак не подберу нужных слов, чтобы уложились в клеточки.
Они помолчали, словно про себя разгадывая загадку. Вязкая тень августовского вечера легла на уютный дворик, незаметно подобралась к скамейке. Никонор Ефимович привалился к спинке, раскинул руки, сладко прищурился, нежась под прощальным лучом солнца. Реденькие седые волосы на висках и на макушке были просвечены так, что вырисовывались каждый рубчик, каждая клеточка темной кожи. На затылок ему упал золотистый лепесток с подсолнуха, который тоже повернулся к солнцу, напрягая свои упругие зеленые мышцы. Прямая линия тени пересекла Никоноровы усы с рыжим подпалом, скользнула выше — к глубокой складке на переносице и, задержавшись на выпуклых надбровных дугах, уже безостановочно прошлась по изборожденному морщинами лбу. Л подсолнух над ним весь так и сиял, вскинув голову к чистому, без единого облачка, мягко-голубому небу.
Читать дальше