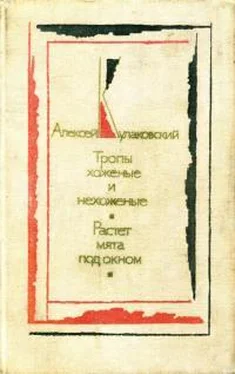А тогда… Тогда — дело иное. Вшитое в сыромятный кнут олово чуть не просекало шкуру, хозяева злобно мстили за непослушание и не жалели ничего: от сильных ударов со щелканьем, как от выстрелов, больно кололо и обжигало бока, спину, шею, голову. От ударов кнута сыпалась на песчаный круг молодая шерсть, тогда еще со светлым, будто позолоченным отливом, упругая и короткая. Если терпеть все это, то не только шерсть, но и глаза выбьют. И, набравшись отчаяния, молодой жеребец кинулся на своих разъяренных хозяев, — кого напугал, кого сбил копытами и убежал.
И не вернулся б он к этим своим истязателям, наверно, уже никогда, такое, видимо, и имел намерение, когда галопом помчался в поле, а там — в лес. Но его владельцами были кочующие цыгане. У них были еще кони. Хоть, может, не такие резвые, как этот, но сытые и шустрые. Сев на этих коней, цыгане погнались за Хрумкачем (будем звать его теперешним именем). Догнали сразу? Вряд ли догнали б… А если б даже и удалось догнать, то не поймали б: ловкостью и изворотливостью ни один цыганский конь не мог с ним сравняться. Большой помехой тут оказался длиннющий, двойной конопляный повод, привязанный за кольца удил. Зацепился этот повод в лесу за здоровый корявый пень и прервал стремительный галоп. И тут уж никакой силы у Хрумкача не хватило, чтоб отцепить или порвать этот повод или вывернуть цепь — удила раздирали рот, крошили зубы. И ременная, затянутая под челюстями уздечка не снималась с головы, как ни крутился жеребец, как ни терся шеей о колени, с каким отчаянием ни вертел головой.
Правда, не учитывал тогда молодой бунтарь, что не прожил бы долго с удилами в зубах.
…Цыгане поймали его, свалили, кастрировали и еще на лежачего надели хомут. И начали, и начали гонять, пока не подорвали… Потом, уже с подогнутыми ногами и хрумканьем в животе, продали Бычихе…
Если б мог Хрумкач вспоминать свое прошлое, то, наверно, вспомнил бы все это вот сегодня, ковыляя потихоньку за своим хозяином. Не зажиточным, не щедрым на харчи хозяином, но единственным после цыган (Бычиху Хрумкач просто не считал хозяйкой). Все было в эти годы жизни у нового хозяина: и голодовка, и холодовка, и оглобля под брюхом, когда сам уже не мог встать на ноги, а обиды большой не было. Даже за то наказание, что перепало от хозяина за сына, Хрумкач не очень обижался, а только каждый раз остерегался, когда ему казалось, что хозяйская рука поднимается к его глазам. Только в это место он теперь и боялся ударов, даже прикосновения: глаза его и так часто слезились.
Куда бы ни повел его хозяин, пошел бы следом не задумываясь, доверчиво и покорно, даже в глубокую воду, даже в огонь. Ведь не всегда же наказывал его хозяин. Было не раз, что он ласкал Хрумкача, кормил из рук свежей травой или клевером, сорванным где-нибудь при дороге. А когда уставал Хрумкач в пути зимой, иногда вынимал Богдан из-за пазухи ту краюшку хлеба, что брал себе на обед, и, разломив на куски, отдавал его коню.
…Пусть ведет теперь куда хочет этот молчаливый, заботливый хозяин… Хрумкач пойдет за ним в самую дальнюю дорогу. Пусть хоть и побыстрей ведет, не так медленно…
Но Богдану спешить не хотелось. Хоть и не такая уж близкая дорога была для пешехода (первая общая конюшня была основана в одной голубовской пуне), но шаг почему-то не прибавлялся, о расстоянии даже и не думалось. Если б хотелось очутиться в этой общей конюшне быстрее, то можно было б подвести Хрумкача к какой-нибудь скамейке возле забора и сесть на него верхом. Ничего, что только одинарный повод в руке: Хрумкачем можно управлять лишь прикосновением веревки к шее или легонькой натяжкой. Можно заставить его и побежать. И побежит Хрумкач, если хозяин тихо почмокает, да раза два дернет поводом, да слегка поддаст в бока босыми пятками. Побежит тихо, ровно, будто марафонским ходом: сам нигде не тряхнется и хозяина не стряхнет.
…Вон и последняя скамейка на арабиновской улице, она под гнилым забором того Рассола, что теперь стрелочником в городе. Может, и сесть тут на коня да переехать луг?.. Штаны испачкаешь лошадиной шерстью (Хрумкач нынче почему-то все лето линяет), но через каких-нибудь десять минут будешь на месте. Там же, наверно, и ждет кто-то, может, даже сам Бегун следит, как кто выполняет свое голосование на собрании.
Поравнявшись с крайним, Рассоловым двором, Хотяновский остановился, посмотрел на Хрумкача, тот покорно стоял, повернув большие осторожные глаза на хозяина.
— Пойдем лучше пешком, — сказал Богдан не то коню, не то сам себе.
Читать дальше