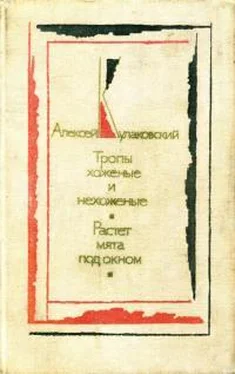«Вот как ты сидишь напротив меня, — говорил Антось, чуть не упираясь одной рукой в костлявую грудь брата. — Только ты — на постели, а он — в кресле. Тебя я вот… могу достать рукой, так же и его мог достать, если бы немного наклонился. Тебя я всего вижу: и лицо, и глаза, так же и его видел. Если б умел рисовать, то мог бы… Но зачем рисовать?.. Это все и так не забудется никогда…»
Вплоть до полного выздоровления, до того времени, когда Богдана снова потянуло в свои всегдашние скитания по заработкам, Антось рассказывал брату о своей незабываемой встрече с Лениным. По тем рассказам брата Богдан и теперь представлял Ленина как очень близкого человека, хоть и не видел его никогда, разве только на том вырезанном из газеты маленьком снимке, который Ничипорова Лида один раз приносила в хату и показывала Вульке…
И вот настали очень тяжелые дни для этого близкого и дорогого человека…
После жатвы в том же году у Хотяновского родился сын. Это первый сын, раньше у него ни семьи, ни детей не было.
В ту же ночь копыловцы убили Явмена Сушкевича и его соседа Кваса. Слух об этом молнией облетел деревню. Вскоре стало известно и как убили, за что. Залез Сушкевич в Копылах в чей-то хлев и стал вязать овец, а Квас стоял поблизости с подводой. Сушкевича поймали на месте, а потом догнали и Кваса…
Утром обоих опознали, взвалили на телегу и отвезли в Арабиновку.
Пошел посмотреть убитых односельчан и Хотяновский. Пока они были живы, так мало кто и интересовался ими: знали, что Сушкевич нечист на руку, однако не очень остерегались, так как в своей деревне он никогда ничего не воровал. Квас же был вовсе не приметен, молчалив, со всеми ласковый и приветливый. Теперь лицезреть убитых сбежалась почти вся деревня — от мала до велика.
Позже всех подошла к покойнику жена Сушкевича. Говорили потом люди, что она только процедила сквозь зубы: «Собаке собачья и смерть», — повернулась, вильнув длинной юбкой, и ушла. Однако до этого краденые вещи принимала, краденое мясо ела.
…Когда убитых взвалили на подводу, чтоб везти на кладбище, так только одна Марфа Крутомысова тихо, будто сама себе, сказала:
— А хорошие были люди!.. Пускай бы жили!..
И скривилась от плача, тайком вытерла рукавом покрасневшие глаза.
Наверно, у каждого, даже и у самого плохого, человека есть что-то хорошее. Мне так и теперь помнится Явмен Сушкевич. Это был весельчак, балагур и неутомимый шутник на всю деревню. Он хорошо знал о своей «славе» среди людей, не прятался от нее и не обижался, когда ему говорили об этом в глаза.
Как-то шел он по улице, а куры возле забора всполошились и с криком бросились от него.
День был праздничный, сидели женщины на Гнедовичевых бревнах, так одна и спрашивает:
— Почему это от тебя, Явменка, все куры удирают?
— Так они же знают, что я вор! — смеясь, ответил Сушкевич. — Боятся, чтоб не поймал.
Остановился возле женщин. И тут сразу поднялся гомон, смех, посыпались шутки. За несколько минут он рассказал с десяток всяких историй, в которых будто бы лично участвовал, хотя на самом деле и близко там не был.
Если ж рассказать о Квасе, то это был совсем другой человек: нелюдимый, всегда будто кем-то обиженный; сторонился даже соседей. А если случайно встречался с кем, то всячески старался сделать ему что-то хорошее, чем-то угодить, обласкать, будто загладить перед ним какую-то свою вину. Вначале все диву давались: как это он мог попасть в компаньоны к Сушкевичу? А потом проведали, дознались обо всем. За месяц или больше перед этим у Квасов родился сын. Теперь отец хотел справить крестины, но выкроить, добыть на это все, что надо, было не из чего. Особенно безысходность мучила при мысли о какой-то живности, которую надо было освежевать на закуску, а в своем хлеву ничего не водилось. И вот в самый трудный момент таких раздумий Кваса встретился Сушкевич и уговорил поехать с ним в Копылы, постоять там за гумнами с подводой. Только постоять… «И будешь иметь жирного барана, крестины справишь такие, каких еще никто не справлял».
…Когда Хотяновский возвращался с этих необычных смотрин домой, рядом с ним пошел и я. Умышленно пристроиться к нему не отважился б, но так случилось, что люди прижали меня к нему. Отступать, будто чураться своего соседа, тоже было неловко, и я ковылял потихоньку чуть ли не в ногу с ним, хотя чувствовал, что он даже не замечает меня. Что у него большая тяжесть на душе, видно было каждому. Шел он как-то слишком медленно, уткнувшись в воротник свитки. Шаги были мелкие и неровные.
Читать дальше