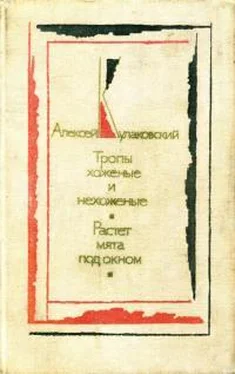Дядька Ничипор на этой вечеринке даже не присел ни на минуту, хотя Богдан играл все время сидя. Ничипор стоял, чтоб всем видно было, как ходят его руки: одна с колотушкой, другая с бубном, в ободке которого было отверстие для большого пальца. Мало того, что Ничипор стоял и притопывал ногами, следя за Ромацком да и другими наиболее озорными парами, он еще и выставлял руки вперед, ближе к плясунам, наверно, чтоб оглушить их своим необыкновенным выстукиванием. Ромацка немного глуховат. Никто об этом ему особенно не говорил, как не говорили и Марфе о ее хромоте. Однако при случае напоминали то каким-то знаком, то кивком, то кривой усмешкой.
Ничипор сегодня был немного под парами своей собственной медовухи и потому особенно подчеркивал глухоту Ромацки бубном. Как только тот приближался к «красному» углу, Ничипор протягивал к нему бубен, звенел «тарелками», как бубенчиками, и во всю силу бил колотушкой.
Ромацка неожиданно споткнулся возле Ничипора и уткнулся головой прямо в бубен. Ничипор не ожидал этого — бубен упал на пол, зазвенел, покатился и угодил под Ромацковы лапти. Или умышленно, или ненароком, с разгону, тот наступил на самую середину бубна. Ничипор с колотушкой в руке бросился в круг, оттолкнул Ромацку вместе с Алексой, поднял бубен, ударил, но звона не получилось, только брызги грязи от Ромацкиных лаптей покрыли рябью ему лицо и чуть не залепили глаза.
Богдан перестал играть и быстро, но осторожно поставил скрипку на лавку, как икону — распятие Иисуса Христа, что висело в углу. Расслабленно опустив руки, подступил к Ничипору.
— Раз взяли, то это самое… надо держать, — тихо сказал он.
Танец прекратился, почти все пары и не пары подошли к красному углу.
— И собачья кожа, а не выдержала, — сказал кто-то сочувственно, с сожалением.
— Разве выдержит, так ляпнул!
Это сказала Марфа, она хоть и смотрела все время на свет, но видела, кто растоптал бубен.
— Черт тебя понес на инструмент! — зло сказал Ничипор, когда Ромацка тоже подошел к музыкантам.
— А зацем вы кидаете его мне под ноги?! — огрызнулся Гнеденький. — Нецего оцень бросаться, я тоже могу наброситься! Не хузе Гугеля! (Это намек на то, что когда-то Ничипор запустил осколком в соседа, а тот был намного богаче и посадил Ничипора на полтора года в тюрьму.)
— Какой дьявол в тебя бросал! — уже на всю хату закричал Ничипор. — Ты сам своей мозговней выбил его у меня из рук! Всунулся!.. В шерсточесалку свою всунься дурной головой, так хоть колтуны повыдирает!
Богдан взял из рук своего такого незадачливого помощника сначала бубен с треугольной дырой, потом колотушку и начал медленно надевать свой кожух. Все поняли, что он больше играть не будет.
— Так заплатили ж ему! — произнес кто-то из девчат.
Сказано было тихо, но все услышали, так как в хате стояла молчаливая настороженность. Услышал это и Хотяновский. Распахнув полы своего длинного кожуха, он немного пригнулся, чтоб добраться пальцами до самого дна кармана своих штанов. Наскреб там несколько медяков, два-три гривенника (те или вместо тех, что ему давали), сложил их столбиком в красном углу, затем начал, укладывать в футляр скрипку. Вскоре он вышел из хаты, не сказав никому ни слова.
Не сказал он — никто ничего не сказал и ему.
Шел мой сосед домой и одной рукой держал под кожухом скрипку, а в другой у него были разорванный бубен и колотушка. Никто не помог ему нести инструменты домой, может, потому, что бубен уже был теперь не бубен, а будто рваное решето; на гнездо его курам и больше никуда. Был инструмент со своим звоном, со своим голосом, его берегли, стремились завладеть им, покрасоваться с ним на улице или в чужой хате. И нет теперь инструмента, будто чего-то очень близкого, живого. Треугольная дыра в бубне видится музыканту, как тяжелая рана в чужом животе. Даже и думать об этом страшно, не то что глядеть…
Навстречу музыканту, из прогалины, а точнее, как у нас говорят, из-под Копылов дул ветер, очень колючий, с сухим острым снегом. Хотел Богдан поднять воротник, как только услышал, что зашумела густая вершина старого тополя над стоявшей в конце деревни часовней, да руки были заняты. Потом показалось, что холодное и порывистое течение ветра спустилось вниз, чтоб засвистеть в выбитых окнах часовни, завихрить по улице, на которой до этого было тихо, спокойно и пусто, будто все живое отсюда сбежалось в хату Лопанихи, где только что игралась, но не доигралась вечеринка.
Когда этот низкий ветер вихрем налетел на Богдана, он повернулся к нему спиной, втянул затылок в воротник. Ледяная крупа сначала как дробью резанула, а затем забарабанила по кожуху и по бубну. Потом, будто одинокий клок бересты, грустно и диковинно задрожал обрывок кожи, которая еще совсем недавно играла, веселила людей. Богдану даже больно стало от этой дрожи, от такой, видимо уже последней, лебединой песни единственного на всю деревню надежного работяги-бубна. Лежать ему теперь где-нибудь в запечке и временами только напоминать о былом. Никогда ему уже не звенеть, не созывать деревенских на вечеринку.
Читать дальше