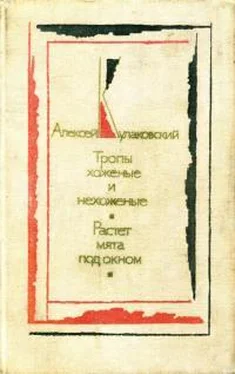«И чего она пошла танцевать с этим оболтусом?»
Сама же Марфа любила всякую музыку: на скрипке, на гармошке и даже на лире. В те времена у нас часто ходили по хатам старцы — люди с торбами: иногда с одной, иногда с двумя по бокам, с лямками крест-накрест через плечи. Среди них были слепые, но хоть на ощупь, да ходили сами; были зрячие, однако ходили с поводырями; были калеки настоящие и ненастоящие, были погорельцы. Некоторые из них пели, некоторые молились, некоторые просто просили помощи. Но были и такие, что играли на лире. За лирниками Марфа готова была ходить следом. В своей хате надолго задержать не могла, так шла в соседскую, чтоб послушать их игру еще и там.
И петь Марфа любила, иногда даже была запевалой в хоре; и на танцы ее очень тянуло: всегда смотрела, как пляшут другие, знала все правила и чувствовала такты польки, краковяка, тустепа, все двенадцать колен развеселой кадрили. А сама плясать не могла…
Вот и на этот раз она несколько возвышалась над людскими головами, и ее высокая кукса под цветастой шалью покачивалась в такт барабана. Все уже знали, почему покачивается кукса: это Марфа, стоя на длинной ноге, короткой притопывала польку, которую музыкант старательно выжимал из своей скрипки.
И смотрела на свет. Об этом тоже все знали. Смотрела на свет, а видела Ромацку или самого музыканта. Это ее вторая беда, и она уже не от того, что отец когда-то уронил ее маленькую. Отец сам любил смотреть на огонь…
Теперь немного об игре Хотяновского. Мне помнится, что я тогда только мимоходом поглядывал на круг и на людей, которые стояли и сидели чуть ли не в самом красном углу. Больше всего меня интересовала игра Богдана, ради этого я и пришел на вечеринку. Теперь, когда стал играть сам, меня еще больше тянуло поглядеть, как играет настоящий музыкант, как он держит скрипку, смычок, как ходят его руки, пальцы, какие звуки издает скрипка при каждом движении смычка, при каждом нажиме пальца.
Первые несколько минут музыкант так нажимал смычком на струны, что звуки скрипки вырывались даже и из-под бубна, хотя дядька Ничипор ни на один миг не переставал молотить колотушкой и бряцать бубенчиками. Я ловил знакомые звуки и невольно оценивал, которые из них настоящие, нужные, а которые с какой-то фальшивинкой. И не желал ничего плохого моему необыкновенному соседу, когда он играл ту самую польку, какую уже умел играть и я. Дронтик тоже играл эту же польку. И старобинские Греки. Полька эта ходила по всей округе — вся соль в том, как и кто ее играл.
Я очень гордился своим незаурядным соседом, хоть и чувствовал, что ему не очень нравится, что в деревне появился еще один музыкант. Тем более, наверно, не хотелось ему видеть меня здесь. Хоть я стоял на самом неприметном месте, все же чувствовал, что Хотяновский заметил меня и, может, потому так старается воспроизводить все ноты польки, да еще добавлять кое-что от себя. Мне даже казалось, что он иногда поглядывал на меня и своей игрой как бы подсказывал: «Гляди, как надо владеть скрипкой, как живо и легко ходит у меня смычок!»
И мне хотелось, чтоб у Богдана действительно получалось лучше, чем у других музыкантов. Человек, у которого я учился играть, от которого услышал первые звуки скрипки, оставался святым для меня. Где-то в глубине души я верил, что Хотяновский хороший музыкант, что стоит только ему размять руки, войти в настроение, и тогда ни Дронтик, ни Греки с ним не сравняются. А что касается меня самого, то еще много соли надо съесть, чтоб так играть.
Некоторые, правда, иногда посмеиваются над игрой Богдана, обзывают его разными непристойными словечками. Но ведь людям не заткнешь рот: они каждого могут охаить, передразнить. Начну я ходить играть на вечеринки, то придумают что-то и обо мне.
Всем своим существом стал я вслушиваться в музыку, ловить каждую нотку той польки, которую хорошо знал, чувствовал все ее особенности, взлеты и перелеты, отливы и переливы. И вдруг защемило в душе от тяжелого смущения. Подумал сначала, что Хотяновский ошибся или, может, еще руки его не отогрелись после мороза. Но на другой ноте снова уловил неприятную недотяжку. Пошло дальше — и, как поганое слово, резанула ухо неуместная перетяжка. А там — раз за разом: то недотяжка, то перетяжка, то непростительное, болезненное нарушение тактов.
И наконец — самое тревожное: стали доноситься до меня уже не те привычные ноты, что издавна жили в моей душе, а что-то близкое к язвительным прибауткам, какие часто выкрикивали на улице заядлые насмешники: «Ита-ита — куча жита…» А то и еще хуже: «Из-под сруба жаба лезет — а куда-а ж ты пошла?!»
Читать дальше