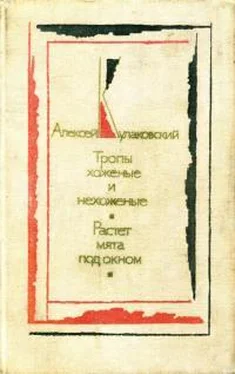Притаившись у забора и затаив дыхание, Пантя вдруг неожиданно для себя стал улавливать какое-то незнакомое скрежетанье. Оно шло будто бы со старобинской дороги и было неравномерное, приглушенное расстоянием: то в какой-то момент отчетливо долетало, то вдруг исчезало. Видимо, на открытой местности все-таки был ветерок, и когда он чуть усиливался и дул на деревню, то и доносил этот скрежет.
«Кто-то едет с возом, — подумал Пантя и, притаившись еще больше, стал ждать. — Вряд ли понесет его какое лихо дальше, завернет в деревню, тогда увидим, кто это и какая лихорадка гонит его ночью. Если один, то надо остановить. А если двое или трое? А если с оружием?..»
Проходило время, а повозка не приближалась. На парня находило успокоение: не надо никого останавливать, проверять, а тем более арестовывать. Однако появилось и разочарование: чего ж сидеть, зачем дежурить ночью, если ничего не заметить, никого не задержать?
Набравшись храбрости, он решил подойти к самой дороге, притулиться там возле крайней хаты (кажется, возле забора есть скамейка) и послушать, последить вблизи.
Пока шел, не слышал ничего, — казалось, что свои шаги заглушали все. Зло брало на сапоги, что они так шлепают и цепляются за что попало. Если попадается на дороге что-то твердое, неровное, то оно сразу чувствуется под подошвой. И почему-то становятся мокрыми ступни, хотя тропка еще и не грязная. Вконец износились сапоги. Хочешь не хочешь, а снова подумалось: как и где достать новые сапоги? Купить — не на что и негде. Сшить — некому. Забрать у кого-нибудь — смелости пока что не хватает. Остается одно — выменять. А что променять?
Не один раз Пантя поглядывал на отцовскую скрипку, которая вот уже несколько лет без всякой пользы лежит в футляре на полатях над печью. И теперь еще смелее подумал, почти решил, что только эту вещь можно пустить в обмен на сапоги.
…Возле крайней, Рассоловой хаты скамейка была очень низкая и узкая: на ней летом сидели, а весной, когда улицу заливала вода, или в дождливую осень, когда всюду была грязь, по ней ходили, как по кладке. И теперь там, наверно, были следы ног, но Пантя не обратил на это внимания, сел и начал еще внимательнее прислушиваться. То же самое скрежетание донеслось снова, уже более отчетливо, чем раньше, но в том же месте.
Где же это? Пантя почти перестал дышать. Напротив — опустевший Ганнин огород, а дальше — Ганнина пустая, с вынутыми окнами, хата, потом — пепелище от хлева. Оно уже немного заросло травой. Дальше, на ветряном взгорье, — мельница. Звуки будто бы и долетают оттуда, но что там делается, определить нельзя. Надо идти туда! Вот напротив заборчик, знакомый чуть не с детства, потертый мальчишескими штанами. Перелезть — и пошел Ганниным огородом. Когда-то, в детстве, все там было очень вкусным, потому что чужое — даже тыква и кочаны капусты. Пройти бороздой за стенами хаты, мимо пепелища, и вот тебе — мельница. Под нею когда-то и вся игра была: в прятки, в курмышку, в войну…
Оттуда снова: скр-рып… скр-рып…
«Надо идти, — твердо намеревается Пантя. — Чего ж тут?! Все знакомое, все свое… Подняться со скамейки — и на забор… Потихоньку, чтоб никто не слышал… И дальше по вишеннику, за заборами, чтоб никто не видел… Это даже интересно, тем более когда ты с карабином».
Но сырая и, наверно, грязная скамейка-кладка стала будто магнитной: не отпускает, держит. Может, это потому, что тут самое темное и незаметное для посторонних место? Почему-то совсем не тянет к себе такая когда-то привлекательная, скользкая гладь открытой местности, будто она стала теперь холодной и морозной; не кажется веселым местом детских игр и мельница. Все уже тут не дышит той прежней ласковостью и обжитой близостью. И это, наверно, в первую очередь ему, человеку с немецким карабином в руках…
Поколебавшись еще несколько минут, Пантя все же встал, перетерпел острую боль в затылке и, прихрамывая той стороной, куда какая-то нечистая сила клонила его шею, пошел к забору. Перелезая, ненароком задел прикладом карабина о верхнюю жердь, содрогнулся от испуга и осмотрелся вокруг, насколько позволял ему поворот головы. Борозды не мог найти, через какие-то заросли пробрался до межи и вдоль совместно сооруженной длинной изгороди двинулся дальше. Шагал, высоко поднимая ноги над влажной травой, местами запутывался в ней и время от времени останавливался, чтоб прислушаться.
Вскоре вышел на прогалину и с испугом и удивлением увидел, что крылья мельницы вращаются. Стоял как вкопанный, не мог сдвинуться с места. Представилось, что вот эта высокая старая трава на меже своими сырыми жгутами оплела его ноги до самых колен и сжимает икры чем-то острым и холодным, словно колючей проволокой, которую он недавно собирал на арабиновских дворах. Крылья вращались медленно, ровно, трудолюбиво. Размеренное скрежетание от этого и доносилось с ветерком до улицы.
Читать дальше