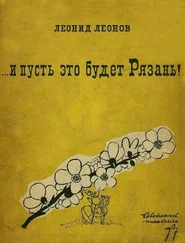— Кому это вы? — деловито спросил он, протягивая мне красную, опухшую от холода руку.
— Так, напеваю… — угрюмо ответил я и в самом деле попробовал изобразить небольшой кусочек мелодии.
— А, напеваете, — поверил деликатный Манюкин. — И я когда-то вот тоже пел! У меня, знаете, меццо-сопрано было. Черт его знает, от каких причин… и родители-то безголосые были… но великолепнейшее! Послушайте, Павел Григорьич, — схватил он меня прямо за бок. — Я никогда не рассказывал вам, как в меня принц Наполеон Мюрат влюбился. Я ведь из-за голоса вынужден был в женском платье ходить… И как он меня на руках через лужу переносил, не рассказывал.
— Сергей Аммоныч, — сухо отвечал я, не справляясь с досадой. — Мне надоело слушать эти ваши арии. То вы лошадей укрощаете, то вы всю Южную Америку покупаете, то вы специалист по женским болезням… Я сам вру не хуже вас, и поверьте, фантазии ваши не сводят меня с ума.
— Тогда пардон… — виновато сказал он, обрываясь, и уже бежал позади и поодаль меня.
Забегая несколько вперед, я оговорюсь. Несмотря на очевидное убожество свое и провал этого человека, сохранялся в нем какой-то кусочек от подлинного человека. Конечно, предки его когда-то благодаря мужичкам, мужичкам и еще раз мужичкам строили культуру российского государства, а сам он выполз уже из величия, так сказать, исторической перспективы и в убожестве вырождения своего измерял прадедовскую библиотеку на квадратные сажени… «Сто семнадцать квадратных сажен!» — восклицал он неоднократно, и Радофиникин, этот древоед с опресноком вместо лица, заключал в почтительном страхе: «Премудрость!» И вместе с тем умел Манюкин значительно молчать о своем горе, не искривляя позвоночника своего. Это он однажды крикнул нам в пьяном, правда, виде: «Жалейте человека! не пренебрегайте человеком! Духа человеческого не убивайте!» Дерзость его, таким образом, достойна всяческого примечания, хотя я и узнал потом, что слова эти он скрал у апостола Павла. Но хвалю и за повторение прекрасного, если своего нет.
Илья Редкозубов встретил нас с непонятным одушевлением, даже изобразил туш на губах. И было видно, что возбуждение его происходило не от вина. При появлении нашем он рассказывал что-то человеку не то чтоб скучноватому, а скорее убийственному; Илья шевелил длиннющими пальцами, а тот целился вилкой в грибки на столе.
— Ты знаешь… знаешь, — подлетел ко мне Илья. — Она будет!! Знаешь, я у ней с визитом был, — обжег он мне ухо дыханием. — Шикарнейшая женщина!..
— А в ухо-то зачем же плеваться, — приспустил я его немножко с высоты, придавая словам незначительность шутки. — Ты, Илья, сальный какой-то стал… — И я решительно отстранился от его объятий.
— Ну вот, уж и обиделся! — недоумевал он.
Почти одновременно пришел Радофиникин с супругой, рыхлой и маслянистой женщиной сороковатых лет. А следом ввалился и Буслов с Хваком, заходивший куда-то.
— Ну, помирились вы? — спросила Ионина супруга у Буслова, кивая на меня. — Мой-то говорил, будто щелканул ты его.
— Отец Иона вообще невоздержан на язык… — быстро ввернулся я, не глядя на покрасневшего Виктора Григорьича. — А вот в отношениях молодых женщин, — тут бросил уничтожающий взгляд на сжавшегося Иону, — так я вам, матушка, доложу…
— В беззакониях зачат… соблазны обступают… — замямлил он, делая одной половиной лица приятную улыбку, а другой умолял меня молчать.
Я уже предвкушал целый фонтан горючей брани со стороны возгоревшейся матушки, даже уже почти слышал звуки некоторых шлепков, даже приготовился на защиту Ионы, говоря: «Что же вы его по щекам-то хлыщете! Как же он, битый-то, литургию преждеосвященных, например, совершать станет?» Однако в ту же минуту в дверях почти неслышно объявился мой уличный знакомый, которого я так ловко вывалял в снегу. Он вбежал, метнулся вперед и в сторону и, остановясь в трех шагах от двери, посуетил глазами вправо и влево. Сзади него повторяли все его движения две его дочери. Одна очень приятная и круглая девушка с надутыми губками, другая же роста несколько необычного для женщины; при этом для увеличения прически был всучен в голову у ней здоровенный бант из упругой ткани. По дочерям я и догадался, что это и есть пресловутый Ларион, унтиловский змей и злая эпиграмма на человека.
— А, вот ты где, мошенник! — фамильярно прокричал он и помахал, как бы зовя, но я не двинулся с места. Тогда, подбежав, он потормошил меня, окаменевшего. — А, здравствуй, здравствуй! Пришиб ты меня, да ничего, не робей, я не сержусь. Хоть сватайся — не откажу!..
Читать дальше