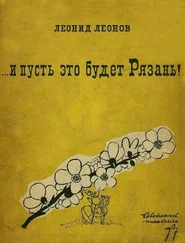В этом-то вот месте и начал Манюкин свой возмутительный тост, разрешивший тяжкие сомнения, мучившие и меня, и Буслова. Выгнувшись в талии почти с придворным лукавством, он приступил к таким словам.
— Виноват, — защебетал он, приятно воздымая места, где обычно бывают брови. — Возьмите, пожалуйста, кружки ваши. Величайшая откровенность, какая только доступна человеческому существу… искренность, обуславливаемая подлинным прекраснодушием, всегда являлись главным украшением истинного славянина. Раскройте нашу историю и возьмите наугад… но я оставляю это, ибо не в этом речь.
— Не икай… — вставил Илья: очки ему уже не помогали.
— Удел высочайших душ, переполняемых чувствами и потому раскрывающих и карман и душу, есть наш удел! Потому-то и пожирали нас разнообразные волки на всем историческом протяжении этого… нашей истории. О, славянин двадцатого века Виктор…
— Одерни его, ишь завез! — попросил я Илью, но он был мало способен теперь понимать человеческую речь.
— …Виктор Буслов, мы любим и ласкаем тебя! — Находясь рядом с Бусловым, он попытался положить руку ему на плечо, но своевременно одумался и не положил. — Только что мы видели кипящее море твоих страстей. Но это все не важно, а важно иное. Супруга Виктора Григорьича вернулась к покинутому, разрываемая поздним, но плодотворным раскаянием на части. То была ранняя пора, когда бушует ветреная младость, по вещему слову поэта. И разве плохо, что она бушует? Бушуй, бушуй, младость, бушуй. И незрелые плоды твои слаще зрелых плодов осени. Бушуй, хоть и ведет тебя порой темное крыло греха. Но непорочная-то любовь всегда непрочная, а с изъянцем покрепче! И вот я припоминаю величественный случай моей юности. Васька Пылеев вином хвастался. В моих, говорит, подвалах…
Только здесь Раиса Сергевна, бледная и растерянная, поднялась из-за стола и отставила свою кружку.
— Простите, — проговорила она с жалкой улыбкой. — Мне кажется, что вы ошиблись относительно причин моего приезда в Унтиловск. Я совсем… совсем… — Она искала слово и нетерпеливым ноготком царапала скатерть. Совсем не значит, что я вернулась к Виктору Григорьичу. Я приехала с мужем, который эсер… ну, вы понимаете. А пришла я сюда, — она передохнула и распустила душный мех, — пришла помириться с Витей. Он хороший, и я, мне кажется, не совсем плохая. И еще… — Она заметно путалась в изображении целей своего прихода, но об этом я вспомнил только впоследствии. — И, кроме того, мне было любопытно, в чем каюсь совершенно открыто, почему… почему Витя не уехал отсюда в революцию. Я ему посылала письма…
Обернувшись влево, я увидел, что бусловские плечи прыгали. Потрясенные, мы стояли вкруг стола, один только он сидел. И тогда спазма схватила мне грудь; что-то сорвало меня с места. Движимый прекраснейшими чувствами, я подбежал к Буслову и обнял его за плечи.
— Виктору Григорьичу незачем уезжать из Унтиловска, — сказал я твердо, глядя на Раису с уничтожающей злобой. — Ему и здесь не пыльно! А относительно писем ваших, так, вероятно, вы без марок посылали их! Почту разбираю я, потому что я служу на почте, и писем на его имя не приходило!
— Нет, я с марками… — слабо сказала она.
Она глядела на меня так, что я понял: необходимо было совершить акт какой-то героической решимости, чтоб придать себе хоть какое-нибудь значение в ее глазах. Все клокотало внутри меня и как бы выстраивалось по ранжиру. Я обнял еще раз Буслова и сказал ему с возможной убедительностью, гладя его по голове.
— Виктор, — сказал я, — не плачь, а лучше иди спать. Ты устал, и, кроме того, ты выпил лишнее. Я всегда с тобой, верь мне. Я не покину тебя, хоть ты и пьян теперь…
Вот тут-то и получился этот скандал, о котором вспоминаю с содроганьем и говорю ради указания, что и мне свойственно правдивое освещение событий. Виктор Григорьич привстал и с вытаращенными глазами ударил меня куда-то… я не помню куда, но кажется, что между щекой и носом… Последнее, что я услышал, был звенящий крик Раисы Сергевны и сиплое дыханье Редкозубова, который бросился спасать меня от Буслова, уже навалившегося мне на грудь. Я лежал среди опрокинутых стульев в стыде и очевидном ничтожестве и не хотел подыматься.
— Так это вы, солнце мое, и доводитесь ему супругой? — воскликнул тогда Радофиникин тоном величайшего изумления. Он это понял только теперь.
Какие тупицы обитают землю, а иногда удостаиваются и сана. Со злым и восторженным вдохновеньем, достойным лучшего употребления, скрипит перо мое о жгучих и дрянных подробностях унтиловского существования. Сам я, сидя на шатком табурете и почти приплюскивая нос к бумаге, криво дивлюсь, что совсем не такими выходят портреты друзей моих, чем я их задумал вначале, чем они в действительности. Лучше не верить мне, когда я превозношу их и когда я клеветнически унижаю их цену. Они ни то ни другое; может быть, они-то и есть цвет земной материи, не искалеченный цивилизацией или чем похуже. Они-то и есть то море, по которому плывут ладьи великих и к восходящим солнцам возвеличения своего, и на острые камни падений. И не их самих, а земную их крепость и мудрость, столь своеобразные, превозношу я ныне и даже тогда, когда она отзывает заведомой глупостью. Однако точка. Имея в виду, что рукопись моя, если не изведут ее на обертку в унтиловской потребиловке, может попасть к индивиду, по природе не склонному к размышлениям о сущности жизни, о людской дружбе, о возможностях, заключенных в человеке, и о многих других немаловажных пустяках, перехожу к действительности.
Читать дальше