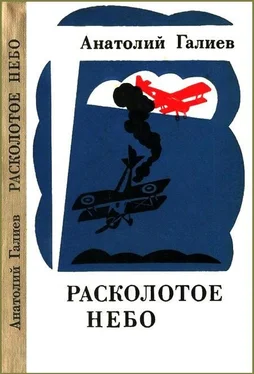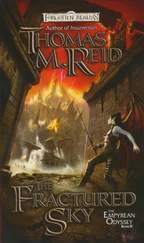Он даже попятился, толкнув синьора Маринезе, вылезшего дышать свежим воздухом.
Синьор смотрел на происходящее с любопытством.
Он немного знал английский и спросил Лоуфорда:
— Он сейчас полетит?
— Нет, — сказал Лоуфорд. — В такой мороз не летают. И потом, вы же видите: глубокий снег. А машина колесная.
— Тогда зачем они ото делают?
— Не знаю, — сказал Лоуфорд.
На заснеженном поле серели квадраты строев. Рявкал духовой оркестр. Но вот он умолк, и послышалось протяжное: «Ша-а-а-а-гом а-а-арш!»
Взбили сыпучий снег тысячи тяжких сапог, трамбуя его, вминая и давя. Гулко дрогнула промерзшая земля, и, разворачиваясь, двинулась на степь дружная сила.
Глазунов захохотал от радости, глядя, как почти три тысячи мужиков месят снег, как глину на саман. Но так было только сначала, а через два-три прохода, снег, прибитый до каменной твердости, вмялся в землю, и на белой целине остался огромный квадрат крепкой площадки.
Бойцы расходиться не стали, рассеялись вдоль границ поля, задымили махрой, смотрели, как Щепкин бродит по полю, ковыряя его палкой и притоптывая сапогом, пробует твердость.
Паровозной золой, песком из песочниц, мелким углем запорошили полосу посередине квадрата. Нил Семеныч с мотористами занялся навеской крыльев «сопвича». На колеса, чтобы не скользили, намотали веревок, как рубцов. На морозе руки Глазунова и мотористов липли к металлу, на ключах оставались клочки кожи, кровяные пятна, но никто не жаловался. В рукавицах механизм не собрать.
Свентицкий стоял в стороне молча, смотрел. Лицо у него было восхищенным и бледным.
— Я бы до такого не додумался! — сказал он Щепкину с завистью.
Часа через два запустили, разогрев паклей, мотор. Кликнули клич, у кого есть одежда потеплее. Из пехоты набросали гору всякого, пилот отобрал пару рукавиц, треух собачьего меха, кожух, валенки. В кабину Щепкина всаживали, как в грядку репу. Вскинули на руках и с гоготом устраивали.
Из намотанного шарфа только глаза у него смотрели, иначе обморозится как пить дать.
«Сопвич», звонко рокоча мотором, порулил по площадке туда-сюда, постоял, разогреваясь и дрожа мелкой дрожью, и наконец, взбивая золу и мелкий снег, покатился по полосе навстречу острому ветру. Многие бойцы попадали в снег, глядели снизу и, когда колеса аэроплана отделились от земли, закричали:
— Летит! Летит!
Швыряли шапки в воздух, орали, и могучий хохот и крик катился над степью.
А когда аэроплан растаял в сизом, вороненом небе, бросились на мотористов и Нила Семеныча, начали качать.
…Синьор Маринезе посмотрел на Лоуфорда с усмешкой:
— Кажется, вы говорили, что он не полетит?
Лоуфорд молча отвернулся.
Из вагона он не вышел, даже когда «сопвич» вернулся и толпа, хохоча, бежала вслед за аэропланом, останавливая его раскат за крылья.
Видно было, что пилот привез важное известие.
Из эшелонов начала стремительно выгружаться конница, прямо близ насыпи большевики развернули батарею и открыли огонь по каким-то черным строениям, маячившим на самом горизонте.
Затем туда же, разворачиваясь по целине, в степь побежала пехота, и уже издали пришел тягучий крик «ы-ы-ыра-а-а-а!»
Лоуфорд злорадно ждал, что бой будет затяжным.
Но эшелоны тронулись уже вечером.
…Среди ночи Щепкин поднял гудевшую от усталости голову и огляделся. Под потолком качался фонарь, железная печь посередине вагона рдела малиновым светом. В вязкой полутьме на нарах тяжело лежали люди. Глазунов, ища тепла, забрался в середину, между Леоном и Кондратюком, что-то наборматывал. Из-под кошмы светилась комиссарская лысина.
Моторист Мамыкин свистел носом.
Щепкин слез с нар, откинул дверцу печки, прикурил от уголька. Вслушиваясь в бормотания и всхлипывания сонных, недоуменно думал: «Проснулся для того, чтобы сказать что-то важное, а что именно — никак не вспомнить».
Перед глазами все еще вставала, как стена, белая степь, по ней, рассыпаясь, удирал офицерский батальон смерти, дымно горели хаты. Это было сегодня? Или вчера? Или это еще, будет?
Усталость туманила мозг.
И все-таки Щепкин вспомнил, что именно он хотел сказать. Оглядев теплушку, он решительно откатил дверь. В вагон ударил ледяной ветер, полетел, вихрясь, синеватый снег. В черной ночи сияли крупные южные звезды.
— Подъем! — крикнул Щепкин.
— Дай поспать… — пробормотал Мамыкин.
— Вы что, очумели? — засмеялся Щепкин. — Сегодня же Новый год! Двадцатый! Соображаете?
— Нашел, чему радоваться… — пробурчал, зевая Леон.
Читать дальше