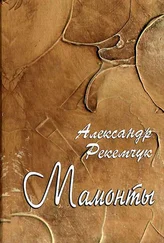Я хохотнул.
Назавтра, поздним вечером, мы провожали финнов домой с Ленинградского вокзала.
Их опять где-то успели подогреть на прощанье.
И белокурая красавица Марья-Леена Миккола, расчувствовавшись, решила вознаградить меня за все причиненные волнения поцелуем, добавив к нему мое имя в ласкательной, по ее мнению, форме:
— Альоша...
Я мог бы и не раскрывать эту маленькую тайну, но суровые правила повествования поп fiction требуют полноты свидетельства и не допускают замены подлинных имен даже сходными по звучанию.
Свой век
Тридцать лет спустя я все еще был жив и у меня опять был день рождения.
Дата не круглая — семьдесят три, — но это осложнялось общей ситуацией, поскольку истекал последний год XX века («ха-ха века», — шутили состарившиеся сверстники), предстояла смена тысячелетий, все ужасались — мол, дожили! — примерялись, как рука выведет на бумаге непривычную цифру 2001, словом, хватало забот, а тут еще мой, как всегда некстати, день рождения.
Накануне, в урочный вторник явившись на кафедру творчества в Литературном институте, где я веду семинар прозы, столкнулся там с Евгением Борисовичем Рейном, известным поэтом, который ведет семинар поэзии.
— Поздравляю! — воскликнул Рейн, тряся мне руку.
— С чем? — уныло отозвался я, давно уже отвыкнув от добрых вестей и догадываясь, что он и слыхом не слыхал о моем дне рождения.
— Ну, как же: «Русские писатели 20 века», вот эдакий томище! От Чехова до Рекемчука...
Я понял, о чем речь. Действительно, только что вышел в свет биографический словарь, подготовленный издательством «Российская энциклопедия». Состоялась его презентация, где обладателям наиболее звучных имен вручили по тому. Меня не звали, на всех не напасешься.
Я отправился в Дом книги и купил этот словарь за свои кровные, жутко дорого. Но ведь, все равно, пригодится в хозяйстве: кто да кто.
И еще я догадался, как Рейн вышел на мою фамилию: искал себя, а мы с ним рядом. Между нами, вот беда, позатесалась Лариса Рейснер, но ведь она и красавица, и комиссар, и возлюбленная Гумилева, — пускай стоит.
Нужно было столь же тепло отозваться на внимание коллеги.
Но у меня, как обычно, не получилось.
— Там нет Чехова, — буркнул я.
— То есть... как? — округлил совиные глаза Рейн.
— Нету. Ни Чехова, ни Толстого, я имею в виду Льва Николаевича.
— Но почему? Ведь они...
Тут он был совершенно прав. Чехов умер в девятьсот четвертом, а Лев Толстой еще позже, в девятьсот десятом, лишь самую малость не дотянув до событий, от которых и вовсе бы рехнулся.
Но их обоих не было в биографическом словаре «Русские писатели 20 века» — ни Чехова, ни Толстого, — поскольку они были писателями века предыдущего, девятнадцатого.
— А Горький?..
А Горький был, хотя он и прожил почти половину жизни в девятнадцатом веке, и там сложился, как писатель, там обрел свою громкую славу, что на Руси, что в целом свете, — но он был честь честью оприходован в фолианте за двадцатый век. И надо полагать, не только потому, что якшался с Лениным и Сталиным.
Тут была своя логика. Своя мистика.
— Странно, — сказал Евгений Борисович. — Но я вас все равно поздравляю!
И мы отправились по аудиториям воспитывать подрастающее поколение.
Не только мы с Рейном подметили эту странность. Схожие суждения появились и в разговорах, и в печати. В последнем интервью, опубликованном уже посмертно, писатель Петр Проскурин говорил:
«...Да, это наш век. Другого у нас уже не будет. Наступившее столетие для нас неродное. Оно будет близким для других поколений, с новой цивилизацией, с новыми отношениями».
Было нетрудно продолжить эту цепь рассуждений. Если Толстой и Чехов, ухватившие толику двадцатого века, все же остались в девятнадцатом, то, значит, и нам, счастливцам, законно прописанным в двадцатом, но уже заглянувшим по жизни в следующий, двадцать первый век, придется довольствоваться тем, что мы в нем — гости, хотя и почтенные, степенные, как и положено старикам, но все-таки гости.
А хозяевами в этом веке окажутся молодые поколения — литературные в том числе. Они и расставят всех по местам.
Но далеко не все эту очевидность принимали.
За одним из писательских «круглых столов» вдруг разобиделся и раскричался Анатолий Андреевич Ананьев, достаточно известный прозаик, к тому же главный редактор журнала «Октябрь».
Мол, что вы нас заживо хороните? Ведь мы продолжаем работать, мы пишем. Может быть, мы еще такое выдадим, что никому и не снилось!
Читать дальше