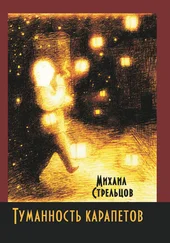— А в Париже все время идет снег. Ночью шесть градусов мороза.
А тот, другой, ничего не ответил ему, лишь вдохнул всей грудью теплый голубой воздух, глянул на виллы, которые были уже далеко, и увидел высоко над ними огромные белые горы, что все росли и росли, и казалось, никогда не было под ними ни виноградников, ни пальм, ни алоэ.
А лодочка все плыла и плыла, и те, что сидели в ней, вспоминали зимний Париж, какого-то Жюля, который в один вечер покорил сердце богемной красавицы Сильвии Рамон и ночью, когда уже расходились от нее гости, босиком кружил по заснеженному двору — мыл ноги. Большой чудак и большой ребенок был тот Жюль.
А лодочка все плыла и плыла, синело чистое и знойное небо, все росли и росли на горизонте белые горы, и некто Поль вычитывал в газете про снежные обвалы в горных селениях с удивительными названиями: Пироле, Дамонте, Кьябрано, Вольпрато.
А потом лодочка повернула назад, и берег все приближался и приближался, и не стало уже видно высоких белых гор, и вскоре не было уже ничего, кроме города и синего моря, и все плыла, плыла по дремотной воде лодочка, славная лодочка с синей каймой по борту.
Удивительные вещи бывают у классиков, а еще, может, удивительнее всего то, что ты вот никогда не был ни на Средиземном море, ни в Париже, по почему-то знаешь их, будто там когда-то жил.
А жаркий день на луговине, сено в прокосах, книга Мопассана — все это было со мной и, возможно, было еще с кем-то, но тому, другому, не обязательно читать эти страницы. Важно, чтоб с ним было, а свои страницы он сам напишет. И может быть, он, как и я, однажды весною возьмет да и пойдет на свою давнюю луговину, потому что нет ничего плохого в том, если человек ступает на одну и ту же стежку дважды и если к нему по этой причине приходят воспоминания.
Да ведь еще и так человек находит себе друга в путешествии за город.
ДОБРОЕ НЕБО
(Перевод Эд. Корпачева)
— Ну, гляди теперь сам, Максимка, а я пойду, — сказала сестра. — Я думала, не приедешь. Старый Ничипор говорил, они отбудут очередь только за корову. Телку на пашу не пускают — хромает… Так что завтра как раз твоя дворовка — хорошо, что ты приехал…
— Я знал. Председатель на луг заезжал, говорил насчет Ничипора. Я потому и приехал… А мы сегодня постарались с утра и к озерку вышли: туда, где прошлым летом молния секанула Авдея, помнишь?
— Так ты гляди, Максимка, сам. Я тебе хлеба испекла. Масло вчера сбила. Что это я еще хотела сказать?.. Ага, кабану не замешивай густо — лето же. Он и ботву вон как ест — аж уши трясутся. Так что муки поменьше ему давай. Квоктуха твоя какая-то дурная, из хаты не выгнать, а цыплята большие — зачем их держать в хате?
— Иди, Настя, иди, управлюсь. Спасибо, что эти дни побыла.
— Варвара вчера заходила. Увидела, что я у тебя во дворе. Поговорили. Женился бы ты на ней…
Она вздохнула, поправила под платком слежавшиеся волосы, глянула на свои босые ноги и, снова вздохнув, пошла в огород. Он молчал. Смотрел, как в огороде она подвязала фартук, стала подбирать с обмежка траву — трава, нагретая солнцем, за день упрела и теперь пахла молодым сеном — сладко и духовито. Настя пошла межою возле гряд, снова зачем-то наклонилась, зашелестела огуречником. «Семенные огурцы прикрывает, — подумал он, — чтоб куры не поклевали». Так огородом она и вышла в поле, ни разу не оглянувшись, — худенькая, в выцветшей ситцевой кофте, в широкой длинной юбке, и пошла, освещенная скупыми уже лучами невысокого солнца. Столько отрешенной печали было в ее маленькой фигурке, что и его охватила необъяснимая тоска.
Во дворе было тихо, тихо было и у соседей, у старого Ничипора: лишь чирикали там, над окном, молоденькие воробьи, — все окрест было таким привычным, устоявшимся, обыденным, что не хотелось всего этого видеть.
Он пошел в конец двора, к погребу, по старинке крытому соломой, Тут было прохладно, пахло картошкой, пахло сырой землей. Картошка проросла в погребе — из-под нижних бревен пробились к свету бледно-розовые ломкие ростки. Максим открыл дверь в погреб, пригнувшись, ступил в прохладную полутьму, постоял, привыкая к мраку, затем нашарил возле стены холодный тяжелый ковш, сделанный из снарядной гильзы, принялся мешать им в бочке с березовым квасом. Глаза привыкли к темноте, стали видны закопченные стены, железная тренога для углей, — зимой он обогревал погреб, чтоб не померзла бульба.
Максим пил кисловатый, резкий березовый квас и думал, что надо сказать Насте, чтобы взяла несколько ведер себе — куда ему одному столько кваса; зачерпнул еще и понес в хату.
Читать дальше
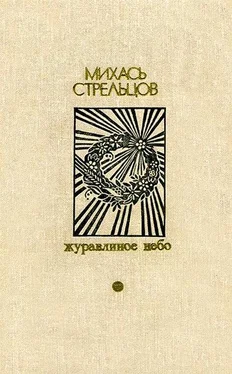





![Михаил Стрельцов - Узют-каны [litres]](/books/404322/mihail-strelcov-uzyut-kany-litres-thumb.webp)