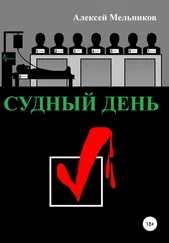И Колька примерил фамилию к себе и почувствовал, что и в самом деле звучит. И тут же сросся, слился со своей фамилией. Родился он с такой фамилией, рос с ней. И была она уже ему дорога, своя, родная фамилия, теплая, как раз по нему, как платье, как ботинки, что в самую пору — не жмут, не хлябают и для любой погоды годны, годны и в будни, и на выход, и в праздник. Вот что значит хорошая фамилия. И материться не хочется, и обиды нет, что не заметили, как прочно он стоит на ногах. Записали, нарекли Кольку Николаем Николаевичем Летечкой, руку пожали и отправили в изолятор, вроде бы карантин пройти, а оказалось — навек. На новый, третий век. И век этот стал самым длинным, и самым коротким, и самым счастливым в жизни Летечки. Самым счастливым и... самым несчастным.
Самым длинным потому, что вобрал в себя целых десять лет. И эти лета промелькнули для Летечки, словно миг. Успел только войти в изолятор, подраться разок со Стасем Дзыбатым, а уже года нет. Сел за парту — и все десять проскочили. А вышел на детдомовский двор, единожды разогнулся, пнул набитый опилками кожаный мяч и, охнув, свалился под вековую липу. День стал веком, столетием. И все это бесконечно тянущееся столетие ребята пинали мяч, купались в пруду, лазали в сад, кому-то из городских били морду, а он, Летечка, лежал под липой. Оказывается, для детдома, чтобы прожить в нем день, ничего не значит, что у тебя есть ноги, чтобы прожить детство, мало только ног, надо еще и сердце, а сердце у него было никудышным. Даже Мани, Вани и Андреи Бураки-бурачки были счастливее его.
Но это собственное несчастье, свою недоделанность, Летечка не выпячивал, не носился с ними, как с писаной торбой, как, впрочем, не носились и Стась Дзыбатый и Васька Козел. Более того, они зубами, кулаками выбивали себе у ребят полноценность. Выбивали, синея, порой теряя сознание от непомерности возложенного. И выбили, отстояли себя и в изоляторе. Их называли в детдоме психами, но с оглядкой, шепотом, называли недоделками — и никогда в глаза: с психов что возьмешь. А им было плевать, они гордились, что это о них так говорят. Они отгородились от всех стойкой волной больничного запаха и в изоляторе и в изолированности обрели такую волюшку вольную, о которой детдомовцы только мечтали. И, мечтая, вздыхали — недостижимо.
Недостижимо в детдоме, чтобы ты не был подчинен режиму. Недостижимо, чтобы на троих было полкрыла огромного здания, куда не очень-то любят заглядывать воспитательницы, чтобы на каждого радионаушники. И ты можешь слушать это радио, пока там, на станции, не выключат его. Тумбочка на одного человека. И множество, множество других мелких благ, поблажек и послаблений, из которых складывается счастливый неказенный быт.
Этот свой неказенный быт Васька, Стась и Колька ежедневно, ежечасно выставляли напоказ, щеголяли им и, не признаваясь, скрывая даже друг от друга, томились под его гнетом, как томится скрытая зимой подо льдом от стороннего глаза свободная речка. И не для красного словца сказано, что десять лет, прожитых ими в детдоме, стали для каждого из них веком. За десять лет Васька Козел в детдоме не только успел нарастить горб, но и состарился. Это был маленький сухонький старичок-сморчок с морщинами на гладкой детской коже, с усохшими стариковско-детскими костями под этой кожей, тонким и писклявым голосом, скрытный и хитрый. Когда Васька шел по детдомовскому саду, со стороны казалось, что он вынырнул из-под дерева или упал с ветки, как падает недозрелое червивое яблоко. Гном из какой-то страшной сказки. И хотелось подбежать к нему, пошарить в траве, разыскать и дать в руки оброненную им палку.
Гном Козел был в детдоме первым математиком и чемпионом по шашкам. Но никто не знал, как ненавидел он эти шашки, как, таясь, ночами выдирал из рамы стекло и, обдирая горб, забирался через окно в ленинскую комнату, собирал шашки, шахматы и жег их в печке. И не было для него в те минуты большего наслаждения, чем наблюдать, как схватывается огнем черная и белая краска на фигурках. Особую же радость доставляло ему сожжение шахматных коней. И была радость потом, когда хватались этих коней и шашек. Так мстил он в первую очередь, видимо, самому себе, своему горбу за свою обделенность детством, за то, что каждый год в школе за хорошую учебу, в детдоме за победу в шашечном чемпионате его премировали доской и шашками. Но эти собственные доски и шашки Козел берег пуще глаза, и никто толком не мог сказать, сколько их уже скопилось у него.
Читать дальше



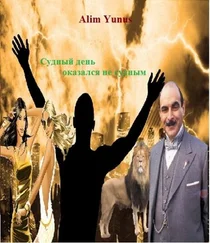
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)