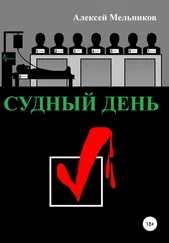Начинался долгий летний день, день-год. И Летечка был доволен, что и для него он начинается так же, как и для всех. Он снова видит солнце, детдомовцев, Лену. Он не киснет, как Стась Дзыбатый и Васька Козел, в палате, не считает мух на потолке, вроде бы и не недоделок он. Вот возьмет сейчас и встанет вместе со всеми в строй и начнет делать физзарядку.
Но Летечка только подумал так, а с места не тронулся, потому что думать ему можно было все, а делать... Он и сам не знал, что ему дозволяется делать.
Сколько себя помнит Летечка-лихолетечка, он никогда не жил, а все время умирал. Умирал летом, когда его сверстники дотемна носились по улицам, разбивали в кровь головы и ноги. Умирал, когда они спали, осенью и зимой. И в жизни этой он объявился из смерти, так ему говорили взрослые. Но он об этом ничего не знал и не помнил. Расспрашивать же, как и рассказывать, в детдоме было не принято. Жили настоящим, тем, что есть, будущим, для которого росли. На болезни и хвори внимания не обращали: подумаешь, невидаль, до свадьбы пройдет все, заживет, как на собаке. Ныть, болеть детдомовцам было не к лицу, это больше с руки городским, кто с отцом и матерью, а детдомовцу лучше скрыть свою болезнь, потому что она откуда-то оттуда, из прошлого, которого они, не признаваясь себе, боятся, о котором думают про себя. Думают Вася Козел, Стась Дзыбатый, Ваня, Маня и Андрей Бурачки — временные недоделки, время от времени из-за той или иной болезни загоняемые в изолятор. Думают и таятся своих дум, потому что гордые, есть и у них свой гонор, и еще надеются они, надеются и сглаза побаиваются, побаиваются спугнуть разговорами эту надежду, хотят быть не такими, какие есть, а как все. Вот потому и не жужжат никому в уши, что они не такие, умный и сам поймет, а дурак не догадается. Не всем надо знать, откуда они.
Первая память Летечки о себе — это он лежит на топчане. Где, в каком месте, в каком году, неизвестно. Топчан деревянный, из неструганых досок, щелястый и темный, в темном углу, поставлен у печи. Застелен дерюжкой, под дерюжкой сено или солома или то, что было когда-то сеном, соломой, теперь же истерто, измелено в муку, сбито в комья и прикрыто дерюжкой. Дерюжкой прикрыт и Колька Летечка. Над ним рой мух и полчища блох. Потолок засижен мухами до черного крапяного блеска. Мухи лезут к Летечке нахрапом. Он давит их и матерится, потому что ничего больше ему не остается. Ноги у него мертвые, не двигаются. Время от времени Летечка откидывает дерюжку и разглядывает свои ноги. Не из любопытства и жалости к ним, а от скуки. Под дерюжкой он голый, и ноги у него цветные — синие, голубые и желтые. Может, от грязи, может, от болезни, а может, они такими и должны быть, ноги у человека. А он человек, это Летечка знает.
Людей вокруг себя не помнит, ни одного человеческого лица. Были какие-то фигуры, кто-то ходил, двигался. Но Колька с ними не разговаривал, материл их, ему отвечали тем же. Не помнит он смены дня и ночи. Вроде бы и не спал он в то время, по крайней мере, глаза всегда открыты были, как все равно ждалось чего-то, а чего, неизвестно. Но от вечного этого ожидания глаза сделались большими и выпуклыми. Может, и не от ожидания, может, от голода. Хотя голода он тоже особо не помнит. Не помнит вообще, что бы ему хотелось есть. Когда спит человек, разве ему нужна еда? И сколько сон тот длился, трудно сказать: год, два, век? Для него, Летечки, наверное, век, а для других... пусть другие сами и считают, вели им надо.
Пролежал он один век, туманный и черный, на топчане. Не сотлел, не спарахнел, не распался. Потом начался век другой, серебряный и светлый, но, пожалуй, более тяжелый и длинный, чем тот, черный век, потому что был он уже с памятью. Началась эта память весенним светлым днем с боли, страха и ужаса. Ворвались люди в серых длинных шинелях, вместе с дерюжками сгребли его в охапку и вынесли из избы на воздух. И что Летечка пережил в эту минуту, ударившись в первый раз взглядом о снег, хлебнув свежего воздуха, и как возмутился этим вторжением в его жизнь воздуха, снега, передать невозможно. Он и царапался, и выл, и несколько раз мочился с перепугу, а уж как матерился, так вряд ли этим людям в шинелях, пропахших порохом, приходилось слышать такое. Его корчило и выворачивало болью и матюками. Больше тогда в нем ничего и не было: кожа, кости, глаза, боль и матюки. Матюки на двух языках, на русском и немецком.
Но страдания Летечки только начинались. Его долго куда-то доставляли на белой лошади по белой, режущей болью дороге. Потом опять несли на руках. И принесли в белую, рвущую глаза комнату. А перед этим снова был страх господний. С него сдернули дерюжки и, как в море, бросили в ванну с водой. Две медсестры и солдат насилу кое-как обмыли его. Медсестры сулили ему сахар, солдат грозил автоматом. Но какой там сахар, какой автомат, если вас поджаривают заживо, варят в кипятке, если вы не знаете, что такое вода, а тем более вода теплая.
Читать дальше



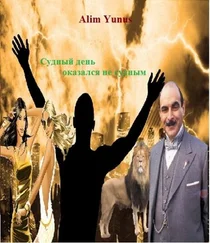
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)