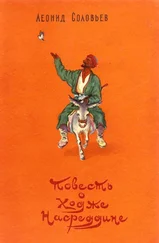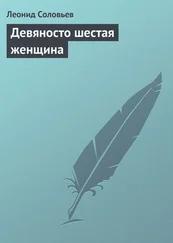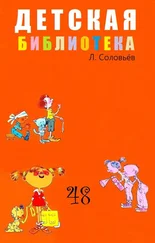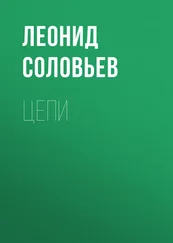Нур-Эддин открывал все новые сочетания красок и радовался, что мир велик и эти сочетания неисчислимы. Чтобы не навлечь подозрений мастера, он еще с большим усердием работал над узорами. Сулейман поручал ему теперь даже сложную роспись и всегда оставался доволен.
— Все очень хорошо, — говорил мастер, — но краски у тебя все-таки слишком светлые. Гуще. гуще разводи краску!
Просыпаясь иногда раньше обычного, мастер слышал, как поет на крыше Нур-Эддин. «Это наверное, тоже грешно — петь, изучая дело, посвященное богу, — думал мастер, — но я помолюсь лишний раз, и бог простит ему».
Между тем наступила осень; в садах через листву краснели гранаты; ломились под тяжестью плода хрупкие ветви персиков; легким загаром покрывался белый виноград, лопалась кожица черного. Хорошо уродился хлопок; с каждым днем белее становились поля. Роспись мечети подходила к концу. Духовный совет готовился к приему паломников. Хотя, по преданию, великий шейх Раббани умер весной, в апреле, под цветущим миндальным деревом, духовный совет перенес день его смерти на осень, когда у дехкан, после уборки полей, бывает больше денег и свободного времени.
...Было утро, — без туч, но пасмурное от сгустившегося вверху тумана, с белесым пятном вместо солнца и бледными тенями на земле. Мастер тихонько позвал:
— Нур-Эддин, слезай, пора начинать работу.
Никто не отозвался с крыши.
Мастер повторил:
— Слезай, Нур-Эддин! — И опять не получил ответа.
Он пробовал кидать камешки на крышу, но его старческая рука была слаба, и камешки не долетали. «Может быть, он заболел?» — подумал мастер и, обеспокоенный, кряхтя и охая, взобрался по сучьям тополя на крышу, глянул — и окаменел. Спиной к стене, лицом к миру сидел Нур-Эддин и рисовал на большой доске осень — тени были бледными, на месте солнца белело мутное пятно, А рядом лежали другие доски — десять, двадцать, может быть, больше — и на них было изображено все живое: лист, капля и впившаяся в нее красноголовая оса, служитель мечети, подметающий двор, пастух в белой рубахе, погоняющий бичом коров, дерущиеся скворцы, облако перьев вокруг них, и, наконец, сам он, мастер Сулейман, — на подмостках, с кистью в руке, босиком; ноги мастера были сухими, искривленными, пятки — восковыми, как у покойника.
— Бисмаляи! — сказал мастер. Нур-Эддин оглянулся и ахнул. — Бисмаляи рахмани рахим! Воистину тебе мы поклоняемся и тебя молим о помощи!..
Схватив свой портрет, мастер занес его над головой, чтобы ударить о выступающую балку. Нур-Эддин побледнел, завизжал и кинулся на мастера, размахивая кистью. Пришлось позвать на помощь служителя мечети; с его помощью были разбиты и сброшены на каменные плиты двора все греховные доски, Нур-Эддин лежал я это время ничком и при каждом ударе вздрагивал так, словно бы доски кололи на его голове.
Усто Сулейман слез с крыши, скрылся в мечети. Когда он окончил моление, служитель сказал ему, что Нур-Эддин ушел куда-то по большой дороге...
...Так рассказывал мне в колхозе «Интернационал» Нур-Эддин второй. Совсем уже смерклось, глубокое русло реки под нами казалось черным, бездонным провалом, и я не мог разглядеть внизу воду: она была здесь слишком неспокойна, чтобы отражать звезды. Появился чайханщик; прогибая босыми ногами зыбкие доски нашего помоста, он повесил фонарь и ушел, — медленнее, чем бы следовало: ему тоже хотелось послушать.
Я перебил Нур-Эддина второго вопросом:
— Скажите, вам, наверное, пришлось учиться у какого-нибудь мастера-старика?
— Да, — ответил он. — Я учился целый год и так же, как Солнечный мастер, я убежал от своего учителя...
Он осекся, словно бы спохватившись:
— Но почему вы спросили?
— Мне кажется, — ответил я, — что в рассказе вашем очень много автобиографических мотивов, — из вашей собственной жизни...
Я хотел немного польстить ему, но вышло наоборот: он как будто даже обиделся. Мы долго молчали, прислушиваясь к плеску воды, ударяющейся на завороте в крутые камни. Странно поет по ночам горная вода — то почти совсем затихая, то нарастая взволнованным бурлящим ревом, словно кто-то большой, невидимый в темноте, вдруг перегородил течение.
Наконец мой собеседник подал голос:
— Как вы думаете — я имел право назвать себя Нур-Эддином... вторым, конечно?
Стремясь загладить свою неловкость, я ответил без колебаний:
— Вы имели полное право. Но вы — художник совсем другого направления, вы не орнаменталист, а живописец. Может быть, вам было бы лучше оставаться Юсупом первым.
Читать дальше