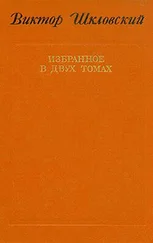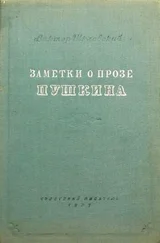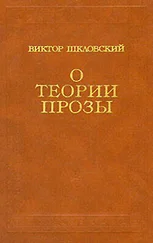Случайные совпадения невозможны. Даже допущение заимствований не объясняет существования одинаковых сказок на расстоянии тысяч лет и десятков тысяч верст. Поэтому подсчет Джекобса неправилен; он предполагает отсутствие законов эстетических сцеплений, которые обусловливаются основными жизненными связями.
Многое можно возразить против этнографической теории и по вопросу о происхождении мотивов. Представители этого учения объясняли сходство повествовательных мотивов тождеством бытовых форм и религиозных представлений.
В этнографической школе совпадение бытовых форм и религиозных представлений прослеживалось эмпирически.
Мир, который пыталась анализировать школа, в ее работах распадался на отдельные мотивы и моменты, которые сопоставлялись друг с другом, но не прослеживались в своей роли внутри самого произведения.
По этой теории сказочные мотивы – это только воспоминания о действительно существовавших отношениях, а не след смены этих отношений.
Сам мотив уже существует в определенном конфликте и привлекается в произведение для анализа этого конфликта.
Коротко разберу очень популярный миф о Дидоне, которая захватила большой участок земли при помощи хитрости: она попросила уступить ей участок земли, который можно охватить коровьей шкурой; предполагалось, что идет разговор о площади коровьей шкуры, но она разрезала коровью шкуру на тонкие ремешки и охватила ремнем большой участок, на котором построила укрепление.
Подобных рассказов очень много. Один из старых представителей этнографической школы, В. Ф. Миллер, в статье «Всемирная сказка в культурно-историческом освещении» («Русская мысль», 1893, декабрь) занял перечислением подобных мотивов двадцать две страницы плотного журнального набора. Он доказывает, что выражение «коровья кожа» когда-то обозначало определенное пространство земли.
Все это очень добросовестно собрано и даже через шестьдесят лет удивляет трудолюбием. Но если бы такое явление существовало, то Дидона не могла бы никого обмануть. Сюжет основан на неожиданности использования понятия, а не на прямом его применении.
Точно так же обстоит дело с положением «муж на свадьбе жены».
Возникновение этого мотива объясняли обычаями левирата, то есть признанием за родственниками мужа права на его жену. Примером может служить история «Книги Руфь».
Действительно, женихи Пенелопы требуют от нее замужества; ей предоставляется право выбора, а не право отказа.
Но мы видим ярость Одиссея, который перебил всех женихов, после этого мы видим попытку родственников женихов отомстить Одиссею.
Вся история в художественном произведении существует не как воспоминание о каком-нибудь обычае, а как след столкновения обычаев.
Сюжетные коллизии возникают на бытовой основе, но они потому и коллизии, что сама действительность изменяется и нормы ее сменяются.
Прошлое отвергается – иногда насмешливо, иногда гневно и кроваво.
Эти столкновения норм обычно и являются основами сюжетных коллизий.
Некоторые возражения против учения А. Веселовского были сделаны давно. Но я тогда исходил из представления о форме, которая сама по себе изменяется и сама себя отрицает.
Работы А. Веселовского были мною восприняты высокомерно и некритично, без пересмотра основ метода.
Истину нельзя было получить при помощи поправок.
Происхождение не объясняет функцию явления, хотя иногда в какой-то степени определяет его тональность, если о происхождении помнят [2].
Риторическое происхождение психологического анализа несомненно и, конечно, неоднократно отмечалось. Но мало анализировалось.
В романе Лонга «Дафнис и Хлоя» Гнатон, добиваясь Дафниса, произносит речь перед его господином. Он говорит: «А если влюбился я в того, кто стадо пасет, то в этом я богам подражаю; пастухом был Анхиз, а им Афродита овладела; пас коз Бранх, а его полюбил Аполлон; был пастушком Ганимед, а его владыка всех богов похитил».
Здесь любовное притязание доказывается мифологическими примерами. Софизм состоит в том, что человек добивается любви мальчика, притом мальчика-раба. Господин отвечает на речи Гнатона словами: «...Эрот хоть кого сделает великим софистом...»
Риторический анализ в греческом романе осуществляется самыми разнообразными способами. Например, способом сравнения.
В том же романе Лонга любви женщины добиваются два человека – Дафнис и Доркон. Доркон произносит речь: «Ростом я Дафниса выше, я пасу быков, а он коз, и настолько я лучше его, насколько быки лучше козлов; молока я белее, и кудри мои золотисты, как колос, поспевший для жатвы. Вскормила меня моя мать, а не зверь какой. А он – мал, безбород, словно женщина, и черен, как волк. Пасет он козлов, и от них отвратительный запах, а беден настолько, что пса не прокормит. Если, как говорят, его молоком вскормила коза, то чем же он лучше козленка?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу