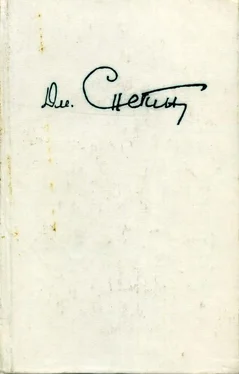Ало вспыхнула заря, и над рекой как бы и не было тумана, он истаял, улетучился и стало слышно, как чисто и мерно плещется неуемная волна, силясь раздвинуть берега в напористом весеннем половодье.
Всех поймали, всех повесили
Радость — редкий гость в лагере. Радоваться — значит жить. И когда разнесся слух, что большая группа военнопленных во главе с Буховым бежала, люди, просто ликовали. Обнимались, поздравляли друг друга, пели песни. Радовался и Фурсов, но к его радости, помимо его воли, примешивалась горечь. Он вспоминал, как мыла его Шумская, как смотрела на него — в канун своего побега. Смотрела. И ничего не сказала. Не дала понять ни словом, ни намеком, что прощается, что уходит на волю. Только паспорт взяла. И то счастье: хоть этим помог кому-то.
В эти дни радости фашистов как не было в лагере. А потом вдруг объявились. Тех, кто ходил, согнали ко рву. Там виселицы. Раскачиваются на ветру девятнадцать повешенных. А фашисты кричат: «Всех поймали, всех повесили! Запомните: каждого беглеца ждет своя петля. Запомните! Власть и сила наша найдет вас под землей и на небе. И раздавит. Запомните и смиритесь!»
Так воспринял Фурсов рассказ тех, кто все видел и слышал. И еще больше укрепился в вере, что должен выжить. «Кто-то же должен из нас выжить, чтобы рассказать людям земли, кто они, фашисты». Об этом просил его тот, Безрукий. Липин. И он должен выжить, чтобы исполнить его желание — рассказать людям земли, кто они, фашисты.
Потом начали передавать от человека к человеку: те, кто бежал 18 марта, бежали. И Бухов, и Шумская *. Все девятнадцать. Их не поймали. Повесили других — для устрашения всех, кто вздумает бунтовать, бежать. Всех ждет один конец — виселица. Как бы там ни было, после этого случая для военнопленных наступили еще более черные дни... Есть такое растение — кускута. Там, где она завелась, не расти другому растению. Проходит время, и там, где зеленела трава, курчавился кустарник — образовалась рыжая, с черной подпалиной, плешь. Вторая. Третья. Вчера вечером все было зелено, а сегодня утром — мертвая, рыжая плешь. Кускута жила в траве незаметно и душила, высасывала соки из травы, из кустарника исподволь, и они умирали.
Так умирали в лагере военнопленные от жизни, которую им устроили фашисты и которая была пострашнее кускуты. Нет, они не жили. А жили здесь клопы и блохи. Фурсов заметил: если вши облепили глаза человека, значит, он умер. Вошь боялась подступать к глазу, если в человеке, казавшемся уже бездыханным, теплилась жизнь. Стоило этой жизни угаснуть, и вши набрасывались на глаза. Случалось, что покойник лежал несколько часов незамеченным, потому что ресницы его шевелились, как у живого.
Как-то Супонев признался Владимиру Фурсову:
— Я веду учет всем погибшим товарищам. Понимаешь, было нас здесь не менее десяти тысяч, когда захватил нас фашист. А сейчас осталось меньше трети. Если и дальше так пойдет, к маю не останется ни одного живого...
— Страшная арифметика. Но кто-то должен из нас выжить, чтобы все рассказать людям.
— Должен.
А выжить становилось все труднее и труднее. С Буга потянуло влажным теплом солнечного апреля. Малохоженый двор покрылся щеткой ярко-зеленой густой травы. Лишь чернела колея, по которой в ров свозили умерших. С каждым днем сильнее припекало солнце. Свирепели клопы — спасенья от них не было. В распахнутые окна откуда-то вливался гнилой, настоянный на мертвечине, воздух.
Фурсов попросил Аню:
— Позови Ивана Кузьмича.
Маховенко пришел — худой, совсем белый, с глубоко запавшими глазами, но по-прежнему доброжелательный.
— Что, каштановый, невмоготу?
— Гибнем, Иван Кузьмич... Разрешите на улицу, на солнышке погреться.
— Разрешите! — вступила и Аня. — Неходячих мы вынесем.
Разрешил Маховенко. На свою ответственность. Кто вышел, кого вынесли. Вынесли и Фурсова. Рана у него уже затянулась, и он несколько дней пробовал ползать. Пополз и теперь. Вместе со всеми. Со всеми вместе рвал и ел молодую, зеленую-зеленую, сочную траву. Ничего не замечал, ни о чем не думал — полз и ел, ел и полз. Кто-то остановил его:
— Гляди.
Он поднял голову и увидел высокий проволочный забор, а за ним ров, заваленный трупами. Трупы лежали в талой жиже, вспухли и зловонили. От них исходил гнилой, тяжкий дух. Фурсова затошнило, и он пополз обратно. Он увидел людей, ползающих на четвереньках и пожирающих траву. Каждый оставлял после себя черный след, как-будто там, где он полз, вовсе не росла трава.
Читать дальше