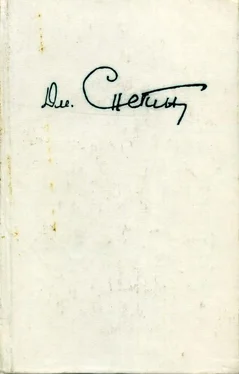И она кормила, как будто ничего не случилось. Так надо. Возле безрукого, соседа Фурсова, она задержалась. Он значился под номером 5617, и фамилия у него была, кажется, Липин, но все звали его Безруким. Прозвища в лагере возникали сразу и сразу приживались. У Безрукого был широко открыт рот, и он беззвучно пытался захватить побольше воздуха. Он напоминал рыбу, выброшенную на берег. Он уже ничего не видел широко открытыми, остекленевшими глазами и бесшумно глотал воздух. Он умирал, и ничто не могло его спасти. Шумская это знала. Не надо, чтобы узнал прежде времени об этом его сосед Владимир Фурсов.
Она исподволь поглядела на Рыжего и поняла, что он знает. Но на лице Фурсова не было ни страха, ни отвращения, и Надежда подумала: «Он выживет». И твердо уверовала в это...
Безрукий умер вскоре после ужина. («Завтрак... обед... ужин», — так велел называть Маховенко). Умирали многие... Гитлеровский генерал, тот самый, которого не устраивало, что русские военнопленные не дохнут, как мухи, теперь был доволен. Поигрывая стеком и поблескивая пенсне, он говорил Маховенко:
— По-человечески мне жалко их. Но — война.
«Иван Кузьмич, как вы сносите такое! Плюньте ему в рожу!» — страдала Шумская. Маховенко снял шапку, вытер рукавом вспотевший лоб. И снова Шумская подивилась, какие у хирурга черные-черные волосы. День выдался особенно трудный, и она смертельно устала, заснула возле буржуйки. Спала без сновидений.
Проснулась она от ощущения, что кто-то посторонний находится рядом с ней. Она открыла глаза и увидела Маховенко. Он сидел на корточках и подбрасывал в печь дрова. Она увидела сначала его руки с длинными подвижными, как у пианиста, пальцами, потом согнутые колени, на которых играли блики огня, потом грудь, с постоянно распахнутым воротом, потом обнаженную голову. И вскрикнула, закрыв ладонью рот.
— Что с вами? — удивился Маховенко.
Шумская вскочила и, не отрывая ладони ото рта, убежала. Маховенко был сед.
Фурсов несколько суток не спал. Извелся. Извелась с ним и Аня Каменева. Фурсов не просто не спал, а казалось, находился где-то по ту сторону жизни. Всех ампутированных, в том числе и Фурсова, собрали в одну палату, но и она пустовала: люди мерли, как мухи. Умирал, казалось, и Фурсов. Вот почему Аня обрадовалась, когда он открыл глаза. Улыбнулась сквозь слезы.
Он берет ее руку, гладит. Ему легко. И в голове все ясно, чисто. Он помнит, как звал, умолял Аню быть вместе.
— Пришла, — слабо говорит он, продолжая гладить Аню.
Она осторожно высвобождает руку:
— Погоди, я тебе вчерашнюю пайку сберегла. Поешь.
Как она не может понять: ему хорошо! И немножечко тревожно.
— Какое сегодня число?
— Двадцать восьмое декабря.
— На лыжах теперь раздолье.
— Ешь! — Ане тоже вдруг стало тревожно.
Фурсов оглядывает палату, не узнавая. Его взгляд скользит по пустым койкам, стекленеет.
— Живой я?
— Живой. Поешь, прошу.
— Где они?
— Ешь.
— Где они?
Аня сразу догадалась, что его мучит, зачастила:
— Здесь вас, ампутантов, объединили... понимаешь, одних ампутантов.
Он закрыл глаза:
— Какие страшные слова: ампутантов объединили... Они где, спрашиваю?!
Аня сдалась:
— Умерли. — Не надо было больше объяснять, от чего умерли.
Фурсов лежал с закрытыми глазами. Молчал. Потом вдруг вытянулся, выгнулся, как перед кончиной, и закричал:
— Смерти хочу! Смерти-и-и! Чем я хуже них?!
Он бился и кричал, хотел открыть глаза и не мог открыть, веки стали чугунными и жгли, как раскаленный чугун. На крик прибежала Шумская.
— Что с ним? —и положила на лоб ладонь. — Горит.
— Горит, — подтвердила Аня. И заплакала. — И помочь нельзя ничем.
— Поможем, — шепнула Шумская и сделала Фурсову укол морфия из запасов, которые доверил хранить ей Иван Кузьмич Маховенко.
Фурсов успокоился, затих, а потом — его счастье — уснул. Вечером попросил поесть. Когда поел, Шумская спросила:
— Болит?
— Очень, — признался Фурсов.
Он был живуч и терпелив к болям. И если уж признался, что болит очень, значит, болит. Шумская сделала ему второй укол. Он снова уснул. Спал спокойно, глубоко. Так глубоко, что не проснулся ни утром, ни днем. Что-то произошло в его сильном, неподатливом болезням, организме, и он не просыпался. Сон, видела Аня, не целил, а засасывал в трясину погибели.
Аня отлучилась из палаты на минутку: вырвать очередную пайку хлеба для Фурсова. На одну минутку. Возвращалась бегом. В дверях столкнулась с похоронщиками. Они выносили покойника. Рассеянно скользнув по лицу погибшего, она уронила пайку.
Читать дальше