— Хочу тебя испить, — Кирилл припал губами к ее плечу и, словно воду из ручья, глотнул теплоту ее тела.
— Пей. Пей вволю, — сказала она так, будто дело шло о чем-то весьма существенном, без чего Кирилл не смог бы спокойно провести день, и, по-девичьи протирая глаза, засмеялась, поняв, что говорит не то, не так. — Ох, слонушка мой! Ты уже на ногах? Но ведь ты вчера говорил, чтобы раньше десяти не будили. Как же это? А-а? — И, ожидая, что он будет оправдываться, как оправдывается всегда, ссылаться на то, что у него есть какая-то спешная работа на строительстве, которую надо выполнить именно в этот ранний час, и зная, что дело-то вовсе не в этом, а в том, что ему перед уходом хочется услышать ее голос, — она, показывая розовый, с темным ободком сосок, сама не зная почему волнуясь, проговорила: — Смотри, Кирилл. Соски назревают… и груди набухли. Значит, скоро, — и шепнула ему на ухо: — Потерпи… и не переставай меня любить такую… уродливую…
Кирилл широко улыбнулся. Улыбка открыла белые крупные зубы. Зубы у него ровные, будто точеные, но один клык сломан. Кирилл как-то говорил: еще в парнях он поспорил, что за полдюжины пива перегрызет горлышко бутылки. Тогда и сломал зуб.
«Вот какой дурень был», — подумала Стеша, рассматривая его лицо, ожидая, что-то он скажет на ее слова.
Кирилл наклонился над ней, взял ее за нос и потрепал:
— Это ты зачем? А? Говоришь такое?
— Боюсь я иногда… Кирилл. Ведь я такая… с пузом.
— А-а-а. А знаешь ли? — И, путаясь, Кирилл стал подыскивать слова, чтобы выразить то чувство, о котором он никогда никому не говорил. — Знаешь ли, я ведь это… ну, как тебе сказать! Ну, мать люблю в женщине. Увижу беременную, и хочется подойти к ней, приласкать ее и сказать слово такое: «Носи, мол, носи: ты землю украшаешь». Вот, видишь, штука какая. — Он передохнул и обнял Стешу. — А ты ведь не только мать, ты — материха моя. Во какая! — Он широко развел руками и поднялся. — Я тебе об этом еще не рассказал. В Италии я видел картину «Страшный суд». Ну, картина такая, знаешь ли, и художника звать чудновато — Микеланджело. Умер он давно. Он святых разных рисовал. Своих святых давал. Ты видела, как Христос нарисован в церквах? Беленький, с тоненькими ручками, ножками… А тут, понимаешь ли, сидит парень такой… плечи у него… ручищи… силач.
— Как ты?
— Угу. Грузчик. А неподалеку от него Ева. Вот это — мать! Мне прямо показалось, род людской на земле действительно произошел от нее. А ведь в священное-то писание я не верю.
— А она красивая, Ева, Кирилл?
— Не завидуй.
— А ты мой Христосище, — Стеша взяла его руку, поцеловала ладонь и положила ее к себе на живот.
Живот раздавался в бока и казался самостоятельным, совсем не принадлежащим обычному, подобранному и упругому, как гуттаперча, Стешиному телу.
«Как изменилась она у меня вся… и какая она у меня хорошая!» — подумал Кирилл, почему-то стыдясь сказать ей все это, и хотел было отойти от нее, чтобы скрыть свою необузданную страсть, но Стеша снова поймала его руку, снова положила ее к себе на живот и, вглядываясь куда-то во внутрь себя, тихо проговорила:
— Слушай-ка, Кирилл.
Под ладонью появились выпуклости. Они то пропадали, то вздувались, и Кирилл ясно ощутил, как кто-то живой толкается в ее животе.
— Да он же действует. Озорник! Давай-ка его сюда. Ну! Живо! — и крепко обнял Стешу, приподнимая ее всю.
— Тихо. Тихо, слонушка, — Стеша закрыла глаза и, не выпуская руки Кирилла, проговорила: — Ох, что это ты какой хороший у меня, Кирилл. Я словно на жилу попала. Не понимаешь? Это я о тебе. Больше узнаю тебя и крепче люблю… вот как крепко, что иной раз прямо страшно становится: вдруг все это уйдет. Почему это, Кирилл?
— Вот тут уж я и не знаю. А ты валяй это хорошее загребай из меня охапками, а я из тебя пригоршнями: у меня пригоршни больше твоей охапки, — как всегда, чуть насмехаясь над ее нежностями, ответил Кирилл.
Но Стеша знала, так делает он потому, что ему хорошо, радостно и что он, «такой верзила», всегда стесняется высказать ей свои чувства, и простила ему его насмешку.
Раннее утро сбегало с гор.
Вдали за увалами, за дикими, зубчатыми и причудливыми вершинами гор брызгами лучей рвался восток. Казалось, там, вдали, может быть, за двести — триста километров, кто-то мечет пылающие головешки в темно-синее небо.
Утро гор.
Вот оно поднимается, наступает все своим широченным фронтом — пышное, бодрое и чуть-чуть студеное.
Кирилл почувствовал эту студеность на своих щеках: щеки приятно защипало, и ему показалось даже, что они у него розовеют, как розовели в дни юности.
Читать дальше

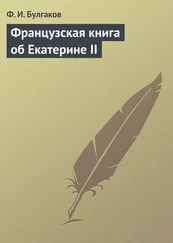






![Федор Панфёров - В стране поверженных [1-я редакция]](/books/393778/fedor-panferov-v-strane-poverzhennyh-1-ya-redakciya-thumb.webp)
![Федор Панфёров - Борьба за мир [2-я редакция]](/books/398428/fedor-panferov-borba-za-mir-2-ya-redakciya-thumb.webp)



Это песня человечества, песня трудящихся!
Песня, которая призывает всех к лучшей, если не к идеальной, жизни.
Людям известны две формы общественного сосуществования людей (как наций, как народов) - это капитализм и коммунизм.
Но капитализм, как известно - это власть капиталла. И мы уже на собственном опыте в достаточной мере смогли убедиться в пагубности взаимоотношений, основывающихся и строящихся на основе "выгоды", на основе как-будто бы равноправных отношений сторон в "договоре". При таких отношениях жулики всех мастей, как говорят, "спаиваются в смычку" во всех сферах и на всех уровнях, и при этом "спаивают" буквально всех вокруг себя, по принципу: "кто не с нами, тот против нас". При этом, всех кто против, безжалостно подавляют. В такой системе все "работают" на "бабло", все стяжают резаную бумагу. Всё вокруг рушится и это разрушение не может остановиться, никто не может сказать "хватит", никто не может выйти.
" Бруски " - песнь трудящихся.
У капиталистов тоже есть своя песнь: "Атлант расправил плечи ". Песнь несомненно гениальная. И главные герои показаны, как люди несомненно творческие и стремящиеся к лучшей жизни, и стремящиеся к такой жизни не только для себя, но, несомненно, для всего человечества.
Эти две песни (коммунизма и капитализма) показывают людям направление для движения, векторы развития. Призывают идти за собой.
Но что характерно, песнь капитализма сама изобличает свой путь, свое направление, свой вектор. Сама показывает, что творческим людям нет там места. Что мечта осталась мечтой, и была вынуждена удалиться, оставив место хаосу и ужасу, порожденному распоясавшимися тупыми жуликами, стремящимися жить за счёт окружающих их людей, т. е. нещадно эксплуатируя, разворовывая, разрушая. И несмотря на гениальность этой песни, мечта оказывается призрачной, скрытой в дымке далекого ущелья.
А что же песнь коммунизма? - Она торжествует! Она сбылась! Она - вот она - есть, существует, призывает всех к радости в труде, к радости в творчестве, к радости общения всех со всеми, к радости совместного труда на благо друг друга. Блаженны дающие! Когда все друг другу дают, никто не имеет нужды, не имеет слез, не имеет страха смерти от недостатка необходимого.
Эта песнь ясно показывает - что правильно, а что неправильно, открывает мерзость и красоту, вдохновляет.