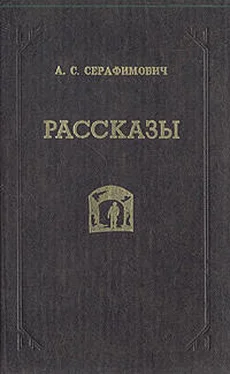Алексей завертелся, оскалив зубы, точно ему прихлопнули палец дверьми.
— Что? — говорят. Ну, давайте, говорят, проверим окончательно. Назначили сходку у Архипа в десять вечера. А в девять, — к нему никто не пошел, а расставили посты на улице и стали караулить, — а в девять к нему в квартиру прошел пристав и два околотка, а на улице у ворот городовика поставили. Ну, ясно?
Он измученно оглядел всех.
Девушка сидела с обвисшими перьями, с горестно опущенными углами рта, с иссиня-помертвевшими, резко очерченными на бледном лице румянами, смотрела на Алексея глазами побитой собаки и все потирала маленькие в кольцах руки, как будто ей было холодно.
— Ну, что, говорят, что?.. А-ха-ха-ха!..
Алексей засмеялся и забегал глазами. Весь ссутулился и опять зашептал:
— Мне его… то есть Архипа… досталось… Узелки тянули… Пойдем, говорю… ночью, часов двенадцать было… пойдем, говорю, пойдем… Удивился: ночью!.. Ну-к что ж, говорю, голова болит. Пошли. Улицы, как мертвые. Фонари дымятся… кое-где… глаза протираю — дымятся… Веду его, господи, веду его, друга своего. Долго шли, на кладбище пришли. Черно, памятники маячат. Сели на плиту. Он говорит: «Чудной ты нынче». А я… засмеялся. Сам не знаю, чего засмеялся. Пощупал браунинг в кармане да говорю: «Давай, выпьем, — две сотки у меня в кармане». Пусть, думаю, в последний раз, а сам стал считать до пятидесяти: думаю, досчитаю до пятидесяти и… чтоб не мучился… А он говорит: «Не хочу, завтра рано вставать». — «Чего так?» — «На квартиру, говорит, новую перехожу…» — «Почему такое? (а у меня в голове: двадцать три… двадцать пять… двадцать семь…)». — «Да, говорит, не нравится хозяйка, надоело, с полицией больно дружбу водит…» — «Ну, двадцать девять… тридцать…» — «На прошлой неделе именинница была, так пьянствовали до утра: пристав, два околотка». — Я ухватил за руку. «Как звать?» — «Да Марья же, двадцать второго июля». — «Это когда сходку назначили?» — «Ну-ну, самое. Хорошо, что не пришли. Мне-то послать некого, а сбегать — кто-нибудь придет». — «А зачем городовик у ворот?» — «Да для посылок же, за вином в магазины все с заднего хода ходил; а Марья Васильевна ему водки все с заднего хода выносила». — «А который к тебе все городовик приходил?» — «Когда?» — «Да недели с три назад». — «Да Прошка же, брат!..» Ах, ты!.. Знаю же, Прошка же, двоюродный брат его… на нелегальном. Бывало, придет, все городовиком одевался — безопасней; какой околоток и спросит, — а он: «С поручением, дескать, секретным, туда-то», — ну, и ладно. Задал еще вопросов, — все просто объясняется… Упал я, целую ему коленки… Испужался он, поднял, повел, думал, — с ума я сошел.
Алексей поворачивал ко всем длинную шею и не то смеялся, не то судорожно икал:
— Чтожж этто… чтожж этто!..
— Лешенька, родимый мой!
Мирон ушел в угол возиться с мышами. Антон Спиридоныч сопел, затягиваясь толстой, как бревно, самодельной папироской.
— Теперь везде пошли фонари газовые, не могут коптеть; прежде керосиновые, так коптели.
Девушка все с теми же собачьими глазами, так же торопливо и нервно, как будто заразилась от Алексея, дергалась, вздрагивая, оглядывалась и все потирала маленькие озябшие в кольцах руки, насилуя перехватывавшие горло спазмы.
— Я все… все… Алексей Матвеич… господи!.. Да разве… — и, судорожно схватив, поцеловала Алексею руку, а тот залаял захлебывающимися звуками, прижимая лицо к столу.
— Лешенька, да господь с тобой… Дай-ка я тебе чайку налью… Умыть тебя с глазу ужо… Родимый ты мой!..
Алексей Иваныч, рассолоделый от водки, говорил, заплетаясь:
— Ошибка в хвальшь не ставится… Вот, Грунька, так-то с тобой… Учись… Что ты и что я?! Чтоб духу твоего не было… Хочешь жить?!. Па-аскуда!..
А у нее сияли бесконечной добротой и счастьем глаза.
— Вы бы легли, Алексей Иваныч, — я вам постельку приготовила.
А около дяди Федора сидела совсем уже другая. Она гордо встряхнула заколыхавшимися на шляпе перьями; на щеках нагло кричал яркий румянец; презрительно сузила глазки, не спеша, умело надевала на маленькие руки с кольцами длинные перчатки.
— Я, папаша, пойду… Кавалер на автомобиле обещался, — не выношу извозчиков. Не хочу, чтобы сюда шофер зашел, — воняет, и подвал совсем.
— Ну-к что ж… Ладно.
У Марфы Ивановны густо надулись покрасневшие щеки.
— Скатертью дорога.
Дядя Федор пошел за девушкой проводить, а она шла, презирая, как королева, шевеля перьями, и лишь кивнула Алексею.
Алексей поднялся, холодно оглядел всех.
Читать дальше