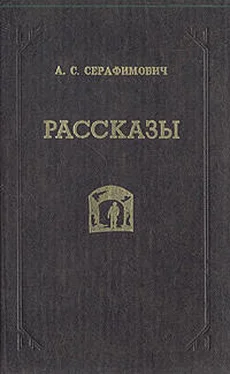Кругом за столом как будто подчинялись этой материнской гордости. И Алексей Иваныч, докуривая собачью ножку, и Антон Спиридоныч, нося животом, и Груня, и Глаша, и Мирон точно слегка повернулись к Алексею. Только дядя Федор терпеливо пил чай, по-прежнему без сахара, прихлебывая, с капельками пота на носу, горячую воду, как бы разумея: «Ну-к, что ж… все по-ладному…»
— А то, — заспешил-заговорил, смахнув жиденькие, крысиные усы, Алексей, заспешил, как будто не видел, да и надобности в них не было, кто сидел, а принес свое тревожное, недоконченное, беспокойное, — а-а, мол, так: тяп-ляп… не-ет… не-ет… — Говорил он торопливо, и торопливо, вовсе не потому, что ему хотелось, пил из рябого блюдца, обжигаясь и моргая без надобности, — ага… не в этом штука… безделица!..
— Ну, да, конечно, понимаем, — и Алексей Иваныч дружелюбно снова запрокинул кудлатую голову и влил под усами между белых зубов рюмку, — за нас, за бездомных… Ну как же, понимаем…
— О, господи, господи!.. Да ведь… — да не докончила и вытерла вдруг покрасневшие глаза Марфа Ивановна.
И хотя Антон Спиридоныч был другого мнения и как бы из другого царства, опустил живот и сказал:
— Князь Грязной-Прокудин так-то сказал: «От Питера до Москвы ихними виселицами уставил бы, будь моя полная власть, и чтоб воронье растаскало». Д-да, потому закон, строгость.
Марфа Ивановна заплакала.
— Лешенька!..
Антон Спиридонович шумно выдохнул и, как бы снисходя и признавая законность материнского горя, подавляя кашель, прохрипел:
— Ему легко говорить: сто тысяч десятин, да на Кавказе, да в Азии…
— Мыша есть где разводить, — вставил Мирон.
Антон Спиридоныч не удержался, закашлялся, трясясь, весь огромный и красный.
Алексей, как ужаленный, заметался, беспокойный и не находя места.
— Да разве в этом штука?! А-а…
В двери, резко и странно выделяясь, колебалась перьями огромная шляпа, а у горла краснел красный шелковый бант.
— Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, Алексей Матвеич.
Она подала руку, а остальным кивнула головой, и перья на шляпе затанцевали.
Никто не подвинулся, не глянул. Дядя Федор сказал:
— Ну-ну, садись, чайку попьешь; я напился… ничего…
Он налил, не всполаскивая, глиняную кружку.
У девушки раздувались красиво вырезанные ноздри, из-под тонких бровей блестели глаза, а на худеньком личике — крикливый румянец.
— Обожатель подвез, — сказала она, нагло оглядывая всех, лишь пропустив Алексея, — до страсти люблю на автомобиле, на извозчиков глядеть не могу.
На ней было расшитое пальто, которое она не снимала, а на голове колебалась перьями шляпа…
Поискала глазами сахар, но у дяди Федора не было, а из тех никто не предложил, и стала пить, будто не замечая.
Марфа Ивановна громко прикусывала сахар.
Девушка, так же делая наглые глаза, — начхать, дескать, мне на вас на всех, — и щеголяя развязностью, сказала:
— Ну, как, Мирон Васильич, поживают ваши мыши?
— Мышь тебя не касается, — сказал Мирон, схлебывая с блюдца, и, склонив голову, налил из пузатой чашки, — мышь себя блюдет, не то что…
— Вешал бы таких, будь моя власть!.. — сказал Антон Спиридоныч, ни к кому не обращаясь, но все молчаливо поняли, к кому это относится.
Алексея точно укололо. Он опять заметался, беспокойно бегая глазами, смахивая жидкие усы, дергая плечом.
— Не в том дело… Эка невидаль — тюрьма!.. Да в одиночке наш брат отдохнет, по крайности, а то нет? Да хоть вздернут… Ну что!.. Намаешься, ну, устал, край… прямо ложись, помирай, задохся, все на тебя… Невидаль!..
— Господи, Лешенька, перекрестись!..
— Не в том дело, говорю… Наш брат из десяти девять тюрьмы понюхал, не страшно… А вот…
Он уставился на них глазами, побледнел и зашептал:
— В этом месяце… товарищ у меня, просто друг… одна чашка, одна ложка… сны одни видим… вдруг сказывают: продает. Вскочил я: «Архип?!» — «Продает», — говорят. «Это — Архип?!» — «Продает…» Ухватил я ножичек, с размаху в ладонь себе… наскрозь… кончик вышел.. — он показал заструпившуюся с обеих сторон рану, — вот! «Когда кровь не пойдет из меня, тогда поверю… режьте мясо с костей…» А они: «Ты, говорят, не прыгай, не меньше тебя друг нам, ты смотри на факты жизни. Первое, как соберемся, где он побывает, — аресты на другой день уж непременно. Сходку назначим, ежели он знает, полиция непременно накроет. Он тебе друг, это, говорят, понимаем, и нам товарищ, а дело впереди всего. Он тебе друг, а страдают тысячи народу. Ты за него, говорят, мясо с себя режешь, а за дело, говорят, и всю шкуру приходится снять». — «Не поверю, говорю, — доказательства!» — «Изволь, говорят, с этого бы и начинал». Стали следить. Глядим, под вечер городовик к нему. Товарищ один прокрался, — городовик, прямо в комнату к Архипу… часа три у него пробыл, потом ушел… Эх, т-ты-ы!..
Читать дальше