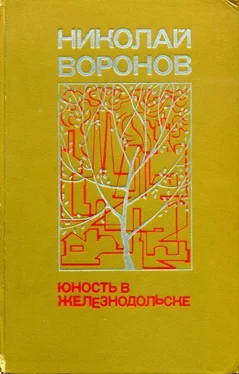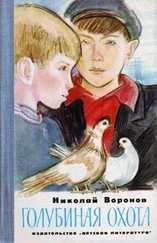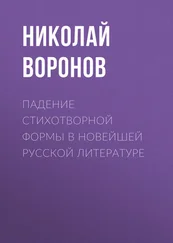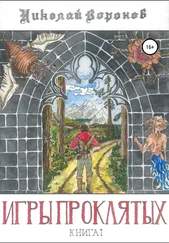На скалах Колдунова стошнило.
Костя Кукурузин видел со склона, как выворачивало Колдунова. И хотя он считал Колдунова вздорным малым, подойдя к скалам, он сочувственно ковырнул пальцем его затылок и неожиданно взволнованным голосом проговорил:
— Держи, Толя, хвост морковкой.
Харисова Костя не замечал, словно не знал о его присутствии, и лишь раздевшись и застегнув перламутровые пуговички плавок, искоса и зло посмотрел на Харисова. Харисов, наверно, догадался, что неспроста Лелеся пришел с Костей и что неспроста Костя не замечает его, поэтому на Костин взгляд дунул через ноздри и ухмыльнулся.
За зиму, всегда морозную, буранную, редкосолнечную (для больших она долгая, для нас короткая: не досыта погоняли клюшками конские котяхи, заменявшие нам хоккейные мячи, не успели вдоволь наиграться в снежных городках и напрыгаться на лыжах с трамплинов), — за зиму тело Кости теряло сургучный оттенок и становилось белым. Но уже в мае оно начинало золотеть, а в июне, когда наши спины только что начинала трогать смуглость, оно принимало прежний яркий цвет. Все мы завидовали его на редкость скорому, красивому загару.
Мы загляделись на Костю, сходящего к воде. Сколько ни смотрим, все равно заглядываемся. Кроме того, что он сургучный, в его фигуре есть бодрая легкость и поджарость, каждая мышца заметна, но не выпирает и отзывается чуточным трепетом на движения.
Костя был в глубине дольше Васьки и слишком долго отфыркивался: часы явно побывали у него в руках. Харисов торопливо закурил и сломал спичку: хитер, псина!
Загладив на затылок черные волосы, Костя поплыл наперерез весельной лодке.
— Вьюнош, — крикнул Харисов, — сдрейфил, что ль?
— Потонешь еще. Ну их.
Харисов нырял усердно и стремительно, но часов не достал. Он сел к нам спиной. На его лопатках дрались копытами татуированные черти. Ожидая Костю, он крошил ударами железнодорожного костыля плитчатые камни. Костя плыл к правобережным рогозникам, видневшимся отсюда смутно, синевато в углу залива. Черным шаром удалялась к той стороне Костина голова. Взмахи рук угадывались по мерному сверканию.
Мы ходили на пруд купаться, играть в догонялки, мыть собак, а Костя — плавать. Он редко возвращался на Сиреневые скалы, не побывав в Азии: пруд — граница между Европой и Азией.
Благодаря Косте мы пристрастились купаться после заката. Это было несказанно: вбежать в парную воду, на битумной глади которой рдеет отражение небосклона, хлопать по поверхности ладошками и слушать, как шлепки, точно удары сазаньего хвоста, хлестко отдаются над рекой, и перекликаться с товарищами в темноте, боясь кого-то, кто может затянуть тебя на дно, и приходить в восторг, что ты не то что не поворачиваешь к берегу, а ложишься на спину в беззащитное положение и задорно поешь песню «Ты, моряк, красивый сам собою...»
Ожидая, когда Костя приплывет из Азии, мы жгли костер. Невольно жались друг к другу, страшась тьмы, утопленников, беспризорников, но голосом и жестами старались показать, что мы удальцы и никакая боязнь сроду не навещает нас. Настороженность обнаруживалась в нашем совместном мгновенном остолбенении при шорохе скатывающегося камушка, всплеске под скалами, при неразборчивом женском вскрике где-то на Сосновых горах, у подножия которых светились бараки Тринадцатого участка.
На Сосновых горах не было сосен и в помине, даже неприхотливого бересклета и чилижника не было. Горы служили местом свиданий, хотя, случалось, по ним в темноте шныряли бандиты. И какой бы звук ни раздавался на их склонах: выстрел ли, вопль отчаяния, мирное ауканье ребятни и стариковский фальцет, зовущий запропавшую куда-то животину, — нас все равно мороз подирал по шкуре: много ужасных историй связывала молва с этой голой крутобокой горной грядой.
Возвращаясь к скалам при луне, Костя вплывал в полосу света. Мы видели его приближение и чувствовали себя спокойней. Если бы не он, нам не довелось бы в детстве любоваться лунной зыбью. Она была иссиня-алюминиевой, оранжевой, красной, эмалево-зеленой.
Мы обожали сердечки-рогозовых корневищ. Они напоминали вкусом что-то среднее между капустной кочерыжкой и свежим сахарным горохом. Мы не решались просить Костю о том, чтобы он приволок паше любимое лакомство. Опасно тащить за собой почти два с лишним километра: изнурится, чего доброго, и потонет. Но Костя и без наших просьб приволакивал рогозовые сердечки: начистит их, обмотает шпагатом, кончик в зубы — и ведет на буксире.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу