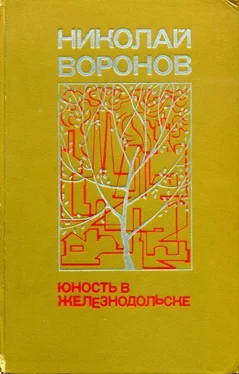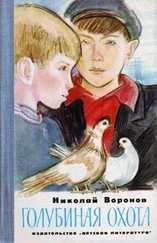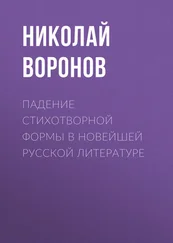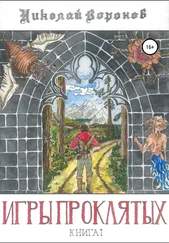Что касается Васи Перерушева, то он крадет один и угрюмеет и может рассвирепеть, если просишься с ним на дело.
Я возвращался от Дедковых на красном трехвагонном трамвае. Всю дорогу мечтал о том, что когда-нибудь, став путешественником, привезу Кланьке из Африки, где баснословно дешевы благородные металлы, преогромной величины золотой геликон. Она удивится: «За что?» И тогда я ей скажу:
— Награда за библиотеку железнодорожников.
Сиреневые скалы находились в стороне от жилья и переправы. Скалы были гладки и плоски у самой воды — нежься голышом на солнышке. Сразу возле скал — глубина.
Мы бросали в пруд осколки тарелок, фонарных стекол, бутылей из-под кислоты. Немного выждав, ныряли, ловили их, хотя и не над дном, но где-то близ дна: вода в глубине, которой мы достигали, резко холодала, а никелевые столбы лучей меркли, мутно зеленели.
Взрослые редко появлялись на Сиреневых скалах: долго идти по крутому склону, глухота, безлюдье. Они находили удовольствие в купании у переправы. Их почему-то не смущало, что на поверхности пруда возле пристани качались сально-радужные пленки, липнувшие к телу и вонявшие бензином и автолом. И в самом деле переправа была удивительна, сутолочна, пестра: трактор, стучащий лопаточными железными колесами по оседающему парому; деревенские пересмешницы-бабы; хряки, привязанные к телегам; башкирки в пуховых платках, толкающие тележки с клубникой; косматые галифе верблюдов; щеголеватый, атласнобородый, высокогрудый начальник переправы; крестьяне, приехавшие откуда-то из бедных колхозов на заработки, — они занимаются перекраской старых вещей, наводят цыганские яркие трафареты на одеяла, скорняжничают в особицу, и их легко узнать по черным узлам, заброшенным за плечо.
Как-то в конце лета пришел на Сиреневые скалы конвоир местной исправительно-трудовой колонии Харисов. Он был в штатской одежде, трезв, лоб занавешен смолевой челкой. Это был тот самый Харисов, который на рынке позарился на мешочек еленинской махорки, купленной Костей Кукурузиным для отца, и пытался всучить нам за нее обыкновенного щенка под видом волчонка. Тогда Харисов, вымогая махорку, грозил прибегнуть к вероломству: я, мол, возьму да закричу, что вы стащили ее у меня, — но Костя так смело его отшил, что он тотчас замолкнул и отстал. С того времени я запомнил Харисова и весь напрягался, готовя себя к отпору, если он попадался мне навстречу пьяным.
Я и Саня подобрались к своей одежде, намереваясь удрать, но Харисов не узнал нас или притворился, что не узнал, и мы не убежали.
Однажды мы ловили «бомбовозов» — крупных стрекоз — на акациях, росших на узкой земле между рудопромывочной канавой и заводской стеной. Землю по обе стороны акаций занимали картофельные делянки. Мы подбирались к «бомбовозам» по тропкам, тянувшимся вдоль акаций. На делянки мы не заходили, если даже видели на картофельном кусте синего «бомбовоза»; картошка тут топырилась тщедушная, ломкая, только зацветала, потому что май стоял холодный, да и почва здесь была сплошная глина. Вдруг мы увидели по военной фуражке, подскакивающей над верхушками акаций на фоне заводской стены, что кто-то мчится к нам по огороду. Мы выскочили на глиняный вал. Мчался Харисов. Мелькал обломок кирпича, зажатый в его руке. Мы бросились наутек. Саня — в одну сторону, я — в другую.
Я уловил свист кирпича, но не успел оглянуться и упал от удара ниже лопатки. Когда я вскочил, то Харисов бежал по гребню вала, настигая орущего Саню. Но поймать Саню он не смог. Харисов остановился, кричал хлипло и прерывисто, что скрутит нам головы, если мы будем топтать его огород. Вот сволочуга! Его делянка подле проходной. Мы даже не глянули на нее, идя за стрекозами: знали, что он караулит свою картошку и может придраться и ударить.
Моя спина горела, будто облепленная горчичниками. Рубашка липла к пояснице. Потрогал поясницу пальцами. Кровь.
Не заревел. С четвертого класса я перестал плакать от побоев, от подлости, от обиды. Мать с темна до темна в молочном магазине: и торгует и заведует им. Вот и заступиться за меня некому. Бабушка защищать не будет. Скорее еще добавит. Сколько ни хлещет меня веревкой из конского волоса, а все этой веревке нет износу. Лишь иногда я плакал от ласковых увещеваний матери, стыдившей меня то за хождение по жестяной громыхливой барачной крыше, с которой я спугивал голубей, то за то, что подрался с кем-нибудь, то за самовольный уход на рыбалку с ночевкой, то за то, что курил в классном шкафу на уроке пения; пению учил нас добрый, смирный человек, бывший поп Иван Сергеевич.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу