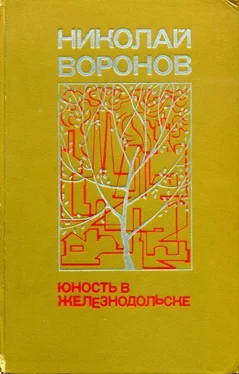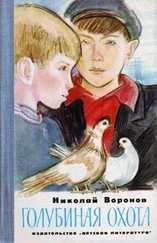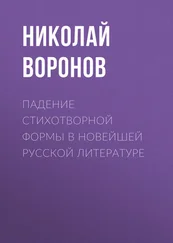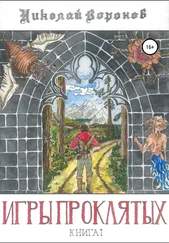Надежно стало, отрадно от присутствия коняткинских домов, будто он, подобно Кольке, рос в них и словно бы по его желанию Паша Белый набрал звенья окон из стекла, которому летние радуги передали умытую мерцающую пестроту.
Под воздействием всего этого он еле сдержался, чтобы не отбросить стеснение и не пойти к Паше Белому. А сдержавшись, посетовал на свою какую-то ущемленную нерешительность, однако остался сидеть в плоскодонке.
Странно ему было, дивно! До сегодняшнего предвечерья для него почти не было этой деревни: проезжал ее улицей в горы, и всё. Не было — и вот он как приворожен. И не потому, что стих накатил. Нет, для его души это не момент приятной, но легковесной блажи. Вовсе, пожалуй, не было, и привалил поразительный мир. Влечет к нему, не перестанет влечь. Так, по крайней мере, сдается. А почему? Кто его знает? Создалась в сердце какая-то притягательность. Что-то уловил заветное, родное. А, наверно, это заслон от самого себя, лукавство с самим собой. Всему-то причиной — женщина, рвение к женщине, страшное, как бред во время тяжелой болезни. Да что бред?! Сумасшествие. Он согнулся, уткнувшись глазами в ладони. Два отражения в вязкой воде колыхались, скользя друг к дружке, совмещаясь, коверкаясь от накатывания зыби. В одном отражении угадывалось стремящееся лицо Тамары. Таким оно было, когда он с братишкой удирал от нее к лодочной станции. В другом отражении угадывалась Лёна по платью, сшитому из тонких цветастых платков, — биение, взвихривание оборки над высокой грудью.
Весь он был как бы втянут в глубину собственного воображения, поэтому и не понял, почему пошатнулся, но, когда плоскодонку качнуло сильней и он машинально встрепенулся и открыл глаза, понял, что созорничала какая-то девушка: держась за перила мостков, она давила ногой на борт плоскодонки. То, что он встрепенулся, заставило ее спрыгнуть с мостков и чуть-чуть отбежать от кромки берега. На фоне света деревни она смотрелась силуэтно, по сторожкому наклону ее фигурки было ясно, что, стоит ему пошевельнуться, она упорхнет к домам.
— Коля, не ты? — спросила напряженно. Ее зажатый острасткой грудной голос вдруг точно бы прорвал трепещущий вздох, готовый продолжиться кратким, отрадным смехом.
— Вы Колю ищете?
— Никого я на ищу. С наших мостков глянула — человек в лодке. Коля, конечно.
— Он что, в темноте к лодке спускается?
— Зачем вам это?
— Для души.
— Раз для души... Зачастую.
— На свидание?
— Одиночествует.
— Так и поверил.
— Спрашивать, а на ответ думать, как вам заблагорассудится. Зачем?
— Простите.
— Пожалуйста. Плохо, если вы себе тут же простите.
— Вот тебе на?!
— Кто строг к себе, тому надежно жить.
— Вы за снисходительность к другим и за строгость к себе?
— К чужим. И смотря по вине.
— Я не чужой.
— Все равно. С вас много не взыщешь.
Лёна неожиданно скользнула в темноту, и Вячеславу почудилось, будто она исчезла, как исчезают цыганки, умеющие о т в о д и т ь глаза, однако через несколько мгновений он услышал жамкающий хруст песка и увидел, что она уходит от него по узенькой полоске меж низким береговым отвесом и пленкой мелководья. Около соседних мостков она взяла ведро. По-скворчиному свистела дужка. Этот свист отдавался в его цинковой пустоте. С прихлюпом ведро погрузилось в озеро, щедро расплескалось на доски, потом, темнея около подола волнующегося платья Лёны, как собака, бегущая рядом, удалилось в переулок.
Все мы сходны в том, что для нас привлекательны те люди, которые проявляют к нам симпатию, доброжелательство, уважение, терпимость, поэтому мы досадуем, обижаемся, гневаемся на тех, кто, как мнится нам, умаляет наши достоинства, а то и мстим за это.
В том, как Лёна разговаривала с ним, Вячеславу представилось казусное недоверие, и он не был склонен винить ее за это (не она ведь молилась на него). Но так он расценивал отношение Лёны к себе, пока она не исчезла за плетнем, на углу которого стоял осокорь. После он ущемился и обвинил Лёну перед самим собой в склонности к предубеждению, да не к доверчиво-наивному, заранее восторженному, а разочарованно-жесткому, унижающему.
Он вылез из лодки, подался, распаляя свое недовольство, на дорогу, которая воспринималась отсюда, словно рубец между небом и землей. Моховые кочки, оказавшиеся на пути, смягчили его намерение. Он присел на одну из них, а вскоре, разувшись, распластал по зыбкому настилу спальный мешок, отваливаясь в нем, задернул «молнию».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу