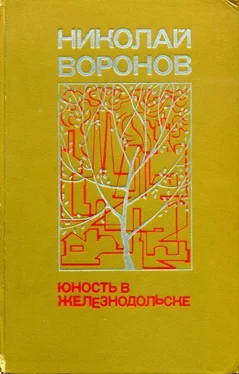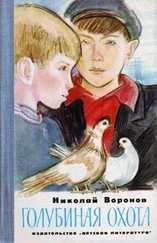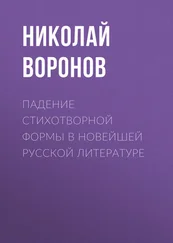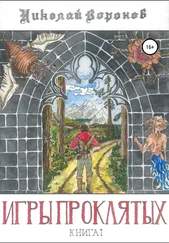— По мне, уборные пора заколотить.
— Хватит тебе, отец, шутки шутить, — щерится Фекла.
Она сама отощала не меньше Петра, но свету в душе хватает и на заботу о семье, и на барачных страстотерпцев (чем-нибудь да наделит), и на пришлых бедолаг, и на смех с улыбкой. Иная одинокая женщина нет-нет и позавидствует Фекле: «Чего ей не жить? За мужем, как за каменной стеной!..» А у Феклы ни дня, ни ночи без заботы. Во сне и то думает, во что девчонок обуть-одеть, как похлебку спроворить или напечь драников.
Непомерной, неизмеримой длины зима! Голодно. Да зато мы хоть не под пулями, не под бомбами и больше в помещении, чем на холоде.
Беспокойно было думать, к а к т а м, на фронте, н а ш и? Одолевала тревога из-за медленности войны («Если еще несколько лет протянется, вконец обнищаем»). И все-таки над этими переживаниями, неизбежными для той тяжелой поры, главенствовало чувство, что для нашего народа, как говорили в городе, п е р е ш л а перевалка; самое трудное позади, мы тесним своего заклятого врага, и теперь уж, как бы он ни сопротивлялся, будем неотвратимо теснить, пока не добьем окончательно.
Ожидание весен — как ожидание спасенья. Всеобщего и твоего.
Едва схлынуло половодье, потянулись за город люди — на огороды и жнивье. Слабые промышляли по окраинам, кто покрепче — брели дальше.
Моя бабушка ходила вместе с Матреной Колдуновой и Феклой Додоновой. Бабушка все дивилась Матрене: «Сердце лопнуло, а возьми ее за рупь двадцать, окостыжилась. Ни в чем от меня и Феклы не отстает». Они копали по копаному. Возвращаясь, сваливали на листы жести, настеленные напротив печных дверок, заплечные мешки с промерзлой картошкой, свеклой, репой. Спины их полупальто были мокры и в слизи, просочившейся сквозь холстину. Дарья Таранина и Полина Перерушева, обе шагистые, приносили колоски. И овощи и зерно сушили в духовках, толкли на муку.
На Майские праздники Дарья Нечистая Половина взяла Колю и поехала на трудовом поезде. Чтобы собрать Колю, ей пришлось обойти барак: всего-навсего у мальчонки и было что ситцевая рубашка. Поехала наобум. Сойдет где-нибудь на остановке и подастся по деревням собирать милостыню — в деревне еще подают, притом Коля с ней. Личико красивенькое, глаза синие. Скупая хозяйка и та подаст. Уехали они на рассвете, к полуночи уже обернулись. В торбе пуда два пшеничных колосков. Повезло! Сошли с поезда наобум, подались первой попавшейся дорогой, а там — поле, суслоны, пшеница лежит вповал, почти не тронутая, правда, редкая. Должно быть, только начали косить — и упал снег, да так и не растаял. Иль рабочих рук не хватало. Покуда брали с Колей колоски — никто не проехал. «Бросовое, поди-ка, поле, потому объездчик не следит. Иль его нет, объездчика. Выбрали на фронт мужчин».
Разожгла она Додоновых своей легкой удачей. Собрались они втроем по колоски: Петро, Фекла, Лена-Еля. Подался с ними и я, но не за колосками — на охоту. Ружьем и патронами меня снабдил Владимир Фаддеевич Кукурузин.
Над вокзальным многопутьем волоклась мглистая сырость. Поезд тускло и зябко смотрел на нее. Настроились мерзнуть, но едва зашли в вагон, бодро загалдели: докрасна накаленное круглое железо печки-саламандры освещало вагон. Фекла сразу приникла к окну, всполошенно и восторженно призывала мужа взглянуть на семафор, на спускавший пары большеколесный паровоз, на элеватор, хотя Петро сидел рядом и тоже глядел в окно.
— Чего, мать, шумишь? Эка невидаль.
— Молчи. Пропустишь.
И Фекла оборачивалась — проверить, глядит ли Петро. Он успевал состроить безразличную физиономию. Фекла тузила его локтем, забыв, что он недавно из больницы, и не соображая того, что удары могут отдаваться ему в еще не зажившую грудь и спину.
Мне нравилось и девчоночье-дикарское ликование Феклы, и дразнящее притворство Петра. Я хмыкнул и тоже получил локоть в бок от Лены-Ели. Она стыдилась материной восторженности.
Поезд огибал Железный хребет. Из прожелти смрада, смешанного с туманом и притянувшегося к горам, едва выпутывались отдельные огни рудника и аглофабрик. В дни ветра свет электричества весело сверлил предутренний сумрак над Железным хребтом; казалось, то близко опустилось звездное скопление и сто́ит дойти до него — причастишься к ясно-чистой жизни уголка вселенной, где нет стуж, преступлений, нужды, смертоубийств, однообразия ожиданий: ведь и беспрерывность душит, как заводские газы.
С выездом в степь увидели над тучей у горизонта розовый край солнца. Обрадовались так, будто с восходом кончится война и наступит бесконечный мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу