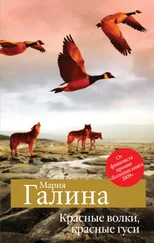Изредка пройдёт морской патруль. "Чудо-богатыри!" – говорит Суворов. Пролетит в небе тройка наших истребителей – "Чудо-богатыри!" А если не военные? Женщина через мост на работу спешит? Мальчишки на санках полено домой везут? Девочка какая-то с продуктовой сумкой плетётся?…

Всё равно чудо-богатыри!
Потому что весь город – фронт. Все ленинградцы- солдаты. Все с фашистами бьются. Каждый на своём посту.
И Суворов на своём. У Кировского моста.

Вовка объявил бунт. Против воздушных тревог.
– Всё, – сказал он, выходя однажды из бомбоубежища. – Больше я сюда не полезу. Ты как хочешь, а мне на крыше лучше.
И что с ним только ни делали, загнать Вовку в бомбоубежище никто не мог. Заберётся на крышу – и лови его. Сначала ругались, а потом, когда Вовка потушил зажигалку, успокоились, разрешили ему на крыше дежурить. Даже и мне потом, заодно уж, тоже разрешили.
Вовка любил небо. Он мечтал стать лётчиком. До войны мы с ним даже на "мёртвой петле" тренировались, в Таврический сад ездили. Далеко!… Через весь город.
Нигде больше такого аттракциона не было, только в Таврическом саду. Заберёшься высоко-высоко, сядешь в коляску и – полетел!
Сначала вниз, вниз, вниз! Потом – раз! – наверх поехал. По кольцу. Охнуть не успел, – уже висишь вниз головой.
– А-а-а! – несётся над садом. Это кто-то вывалиться собрался.
Пока собирался, уже и приехал.
Живым-здоровым.
Прямо из "мёртвой петли".
Не так уж и страшно. В третий раз и совсем ни капельки.
После "полётов" мы с Вовкой шли покупать мороженое. В саду недалеко от "мёртвой петли" был летний буфет. Маленький, голубенький домик. Взрослые там пили пиво, девчонки покупали леденцы, а мы мороженое.
Теперь, конечно, "петля" закрылась. А Таврического сада с нашей крыши и вообще было не видно. Да мы и не искали его. Мы в небо смотрели. Вовка учился узнавать фашистские самолёты по силуэту, по звуку.
– "Фокке-вульф-сто девяносто",- объявлял он, прислушиваясь. – "Юнкерс-восемьдесят восемь".
Словно специально для Вовки, тревоги стали всё чаще и чаще.
Фашистским гадам всё-таки удалось прорваться в небо нашего города.
Восьмого сентября они разбомбили зоосад.
Убили слониху Бетти.
Тридцать лет жила Бетти в нашем городе. Добрая такая слониха!… Головой кивала. Подбирала хоботом конфеты и пятаки. Конфеты отправляла в рот, а пятаки – в карман служителя слоновника. Он ей за это морковку давал. И всем было весело, всем радостно.
А тут её бомбой…
С крыши мы видели, как горели тогда "американские горы" в саду Госнардома.
Четвёртого ноября мы тоже сидели на крыше.
Сирены уже отгудели. По небу шарили белые щупальца прожекторов. Пересекались, расходились в разные стороны. Где-то внизу бабахали зенитки. Иногда осколки гулко шлёпались на крыши. Гудели фашистские самолёты.
Отличать их от наших все уже научились. Наш, когда летит, гудит ровно: "Уууууу…" А немецкий прерывисто: "Уу-уу-уу…" Сейчас они гудели многоголосо. С разных сторон.
– Гляди! – Вовка дёрнул меня за рукав. Он показывал куда-то в небо над Исаакиевским собором. Туда, словно сговорившись, направились все лучи прожекторов.
– Поймали! – Вовка радостно затопал по крыше.
В пучке лучей сверкало белое пятнышко. Вокруг вспыхивали искорки разрывов зенитных снарядов.
– Да ну же! Ну! – волновался Вовка.
На крышу поднялись дядя Никифор, Алла, ещё кто-то из дежурных.
– Эх, мазилы! – вторила Вовке Алла, досадуя на зенитчиков.
Но попасть в самолёт было не так-то просто. Фашист хитрил. Он то камнем бросался вниз, то резко уходил в сторону, снова свечой взмывал вверх…
– Опытный гад, – бурчал дядя Никифор. – Наверное, ас какой-нибудь.

Неожиданно зенитки прекратили стрельбу. И сразу же откуда-то из черноты неба замелькал красный глазок работающего пулемёта.
– "Чайка"! – завопил Вовка. – "И-сто пятьдесят третий"! Теперь не уйдёт!
И как раз в этот момент фашист, вырвавшись из лучей прожектора, удрал в темноту.
В луче сверкнул корпус нашего истребителя.
– Куда он? Ослепнет же!-закричал опять Вовка.
Но лучи сами тут же ушли в сторону от нашего истребителя и вскоре вновь отыскали "хейнкеля". Теперь уже было ясно видно, как "чайка" догоняла его. Догоняла и не стреляла.
Читать дальше