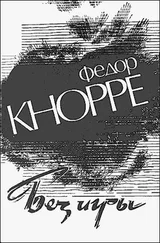— Вот чему ты учил меня в детстве!.. Было время, ты мне какие-то истории рассказывал!.. Сказки. И мне, кажется, это нравилось. Ну до чего же ты был плохой рассказчик… Все ты там путал. На международном конкурсе на худшего рассказчика ты бы попал в тройку призеров, обязательно… Ужасно плохой. Потом я это поняла. А тогда мне почему-то нравилось. Ну почему?
— Да, это странно.
— Почему именно Кискинтин? Он в самом деле существовал?'
— Ну конечно. В детстве. Он сам так себя называл.
— В каком детстве?
— В моем детстве.
— Откуда же я это помню?..
— Когда-то я тебе рассказывал. В твоем детстве.
— Да, да… конечно… Понятно, значит, это у нас с тобой общие детские воспоминания. Забавно, а?
Снаружи, у входной двери, послышалось царапанье ключа, наваривающего замочную скважину. Мать возвращалась из магазина.
Нина быстро подобрала с пола поднос и пошла к ней навстречу в прихожую. По дороге воровато обернулась, точно у них тут шел тайный какой-то разговор. Снисходительно-насмешливо хмыкнула:
— Хм… Друзья детства! Э?.. Потеха!
Она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь ногой и плечом, очень ловко, несмотря на то, что руки у нее были заняты, а Алексейсеич опять остался один. Впрочем, так он проводил сейчас большую часть дня, даже когда кто-нибудь и дежурил, сидя у его постели.
Ему очень хотелось сейчас что-то рассказать дальше про Кискинтина и про все ожившее при первых ее, как будто заинтересованных, словах вопроса.
Слушать было некому, и он стал рассказывать Нине без слов. В ее отсутствие, но так, чтоб она все поняла и увидела, если б сидела тут рядом и ей интересно было слушать.
— Ты можешь себе представить!.. — начал он вслух, но испугался, что его услышат, и продолжал молча и тут же подумал, что молча — оно и лучше. Так же как самый чудесный, оставивший после себя радость и свет сон выглядит глупым сном, когда пытаешься его рассказать наутро, так и это, что ему сейчас так представилось… Что тут можно рассказать? Случайным поворотом телефонного диска с дырочками для пальцев Нина набрала номер, и вот откликнулось: ему представилось разом многое, чего с одной точки глазами увидеть невозможно, а он вот видит разом с самых разных точек: издали, вблизи и даже как будто изнутри все видит. Все разом, так что даже нужно некоторое усилие, чтоб задержаться на чем-нибудь одном.
Видит черный, весь лакированный кабриолет с когда-то впервые увиденной и изумившей его лошадкой. Она бежала весело и надменно, точно играя, выстукивая копытами, по Английской набережной Невы. Он долго потом думал, что такая нарядная, в сверкающих наглазниках лошадка может быть только из цирка; видит матовые тройные шары фонарей Троицкого моста, куда въезжаешь на трамвае мимо пустого плаца Марсова поля и Летнего сада, обогнув памятник очень красивому Суворову; никому не интересную Петропавловскую крепость с золотым шпилем, а где-то в сторонке за ней — точно не известно где — заманчивые и страшные «Американские горы», куда его поведут когда-нибудь; длинный прямой Каменноостровский проспект с только что поставленным памятником «Стерегущему»: два матроса бросаются открывать какую-то заслонку, из которой льется чугунная вода; полный чудес, первый в жизни цирк «Модерн», которому потом предстоит сгореть дотла; магазин, где снежной зимой за большими витринами цветут кусты сирени и прохладно пахнет влажной землей. Это все просто дорога домой, и он старается не задерживаться, оторваться от подробностей, но совсем не видеть, не знать, где он и что вокруг него, он тоже не может. Тусклое зимнее утро. Безлюдно в квартире. Тишина, только потрескивают по всем комнатам затопленные печи. Прохладно и сумеречно. Он сидит, по-турецки скрестив ноги, прямо перед открытой чугунной дверцей кафельной печи. Его обдает жаром и светом, и он не отрываясь глядит в пылающую пещеру, полную голубых, красных огоньков, вспышек дыма и рушащихся, сияющих россыпей раскаленных углей. Там все меняется поминутно, и это что-то значит, но что — непонятно. Он сидит на большом медном листе, прибитом перед жерлом печки медными гвоздиками с маленькими головками. В руках у него стакан с детским «кофеем» с молоком и половина вдоль разрезанного калача, намазанного ливерной колбасой. Он любит смотреть и жариться у открытого огня, он любит ливерную колбасу и нарочно пришел и уселся тут на пол, где ему никто не помешает, чтоб получать все удовольствия разом, и вот слезы текут по его круглым, детским щекам. Слезы восторга и горести, мучительного напряжения отчаянного порыва решимости, готовности к какому-то совершенно неопределенному, но великому подвигу, несмотря на семь лет и ливерную колбасу.
Читать дальше