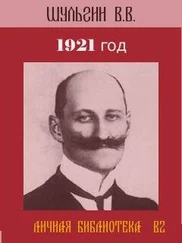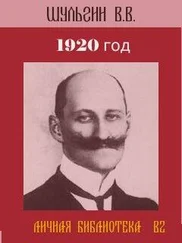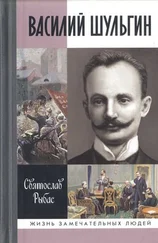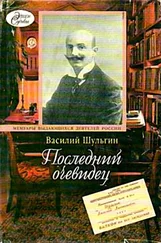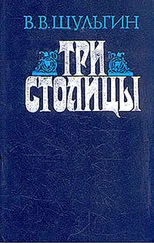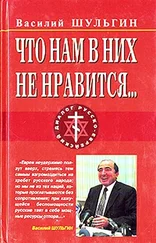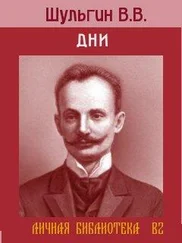* * *
Мысли этого рода и всякие другие бежали вместе с вагонами. Под стук колес легко думается. Тем более, что ночь наступила, проводник исполнил свои обязанности — принес чай с лимоном и постелил удобные диваны. В окнах пропал однообразный пейзаж русской равнины. В темноте иногда проходили ярко освещенные станции, новые, солидной постройки.
Яркие огни на мгновение отвлекали от дум; но темнота возвращала их снова. Беспорядочные, разрозненные мысли утихомиривались плавным ритмом колес и в конце концов сосредоточивались на одном предмете. На моем послании к русской эмиграции, появившемся в Америке 18 сентября. Еще не прошло месяца с этого дня. Кроме сочувственного отзыва газеты, его поместившей, резонанса еще нет. Каков он будет? Будет ли он вообще? Или:
«…Оно умрет, как звук
печальный
Волны, плеснувшей
в берег дальний…»
Дальний, заокеанский…
Опережая события, мысли рисовали перспективы, возможности. Поймут? Или распнут?
Наконец я устал и заснул.
Но проснулся задолго до Киева. Волнение ожидания. Я не был здесь 35 лет. Открыл окно и старался что-то увидеть во мраке. Но ночь была еще черна.
Начало светлеть. В полутемноте стал угадываться Днепр: поезд громыхал на мосту. Я искал вдали ленту фонарей, которые должны были обозначать другой мост, хорошо мне знакомый, Цепной мост. Но я его не нашел. Война его унесла. Затем надвинулись черные горы. Они на время поглотили нас, и, наконец, поезд остановился у ярко освещенного вокзала.
Размышления
В 9 часов утра я вышел на балкон многоэтажной гостиницы, называемой «Украина». Красота! Солнце освещало «прозрачных тополей листы» (Пушкин). Они были цвета, как и должны быть в Киеве в первой половине октября. Зелень уступала золоту. Они, тополя, стояли ряд в ряд; строй уже прекрасный, но еще больше обещающий. Это не топольки-дети; это сильные юноши. Им еще полвека впереди. Тополь хорош во всех возрастах. Эти молодые, пришедшие на смену старикам, еще помнящие генерал-губернатора Бибикова, доживут до 2000 года.
Когда я любуюсь красотой жизни, я всегда одновременно ощущаю атомную смерть, витающую в наши дни над всей землей: над улицами, над площадями, над бульварами. Этот бульвар, что перед моими глазами, бывший Бибиковский, называется сейчас бульвар Тараса Шевченко. На смену павшим тополям здесь выращены молодые, такие же прекрасные.
Важно, что удачная мысль высадить красивую длинную аллею одними пирамидальными тополями воспринята новыми созидателями нового Киева; воспринята и любовно сохранена, и не только сохранена, но и улучшена. Бульвар асфальтирован, поэтому не боится капризов погоды, как было ранее, и окаймлен красивой решеткой.
За строем тополей с моего балкона виднелись многоэтажные дома. Это не тоскливые каменные коробки с дырками (окнами) вместо украшений. Здесь, показалось мне, работала рука инженера, что-то ощущавшего в сердце своем. Что именно? Любовь к своему родному городу! Позже я понял, что это чувство как бы витает над всем Киевом. Здесь при стройке каменных громад музы боролись за красоту. Кто были эти вдохновенные созидатели? Кто бы они ни были, но они заслуживают благодарность потомков.
* * *
Спустившись на улицу, я завернул за угол бульвара Тараса Шевченко и попал на бывшую Б. Васильковскую. Ее трудно узнать. Сейчас это нарядная улица с высокими домами, большими магазинами. Она недаром стала продолжением Крещатика, главной улицы Киева, с асфальтированной мостовой, оживленным движением автомобилей. Иногда я как будто узнавал старые домики, уцелевшие в ряду новых громад, но их мало.
* * *
И вот я дошел до улицы, где, может быть, уцелел мой дом. Эта улица называлась Шулявская. Она вела на Шулявку — предместье города.
Примерно в 1880-х годах она была переименована в Караваевскую в память врача Караваева, очевидно, почитаемого в Киеве. Сейчас она называется улица Льва Толстого. Великий писатель не имел прямого отношения к бывшей Шулявской — Караваевской, но все же имел. В двух шагах от моего дома был приличный особнячок, принадлежавший де-Толли. В этом особняке несколько лет прожили Кузьминские. Он был видным юристом, председатель суда или палаты. С его сыном Мишкой я был в университете, он был такой же плохой юрист, как и я, но виртуозно играл на балалайке, был учеником знаменитого Андреева. Он бывал у меня, и я однажды аккомпанировал ему «куявяк» Венявского.
Но сам я к Кузьминским не ходил. Я был изумительно глуп в мои молодые годы. Как маньяк, любил природу, а к людям был равнодушен. Ничем я не старался подражать Пушкину, Лермонтову, Байрону, т. е. мировой скорби ни в коей мере не ощущал. К литературе относился презрительно, утверждая, что шум леса выше стихов Пушкина и Днепр несравненно прекраснее, чем гоголевское его описание.
Читать дальше