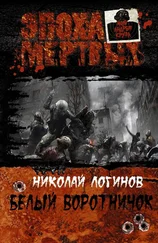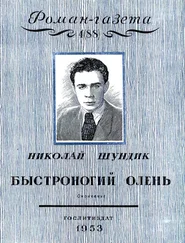Гомон этих базаров порой слышался Журавлёву во сне; случалось, что он, томимый неясной тоской по Северу, поднимался в быстротечных сновидениях на головокружительную высоту обрывистых скал, замирало от страха и восторга сердце, казалось, что вот пройдёт миг – и падение неизбежно; однако его подхватывала неведомая сила, и он улетал вслед за чайками, гагарами, кайрами, и ему представлялось, что он растворяется в чистейшей синеве…
Конечно, Журавлёв помнил и серые, промозглые дни летней Арктики, когда моросил мелкий, почти ядовитый в своей занудливости дождь, когда бродили, как овеществлённое воплощение лютой тоски, туманы, когда в охотничьих походах изнурял гнус. Но как любил он уходить с ружьём в тундру – бесконечную, пустынную и такую мокрую, чавкающую под ногами, что порой не было даже крошечного местечка, чтобы присесть, передохнуть. Знал он не только голубое море, в котором, как в чистейшем зеркале, отражались льдины, но и море бурное, свинцово-тяжёлое, порой до жути чёрное, с белыми пунктирами бешеной пены на гребнях волн. Знал он и бесконечные зимние вьюги – вечные спутники полярной ночи, вьюги, которые иногда срывали крыши с домов и навек околдовывали неосторожных путников, нередко замерзавших у собственного порога. Да, он знал и такое. Но даже то, что там не однажды раздражало, угнетало, – здесь понималось совсем по-иному, манило к себе, как манит бездна. Смотришь в бездну – и словно бы соизмеряешь глубину вечности с глубиной собственной души; и чем бесстрашнее смотришь в бездну, тем пронзительней ощущение, что ты всё-таки хоть малая, но частица вечности…
Звал Журавлёва Север, звал звучанием какой-то до предела натянутой струны, криками птиц, рёвом полярного медведя, звал тоскливым воем волка, будто серый безумно тосковал именно потому, что нет здесь его, Журавлёва, звал топотом серебряных копыт стремительно летящего оленя.
И не только одного Журавлёва звал Север. К примеру, Чугунов тоже два раза пытался уйти из-под его необоримой власти и возвращался опять. Во второй раз он вернулся с женой. Нашёл лихой усач девушку на двадцать лет моложе себя; её тоже, как и первую жену, звали Ритой. Шли годы, родилось у Чугуновых четыре сына, и только один из них после службы в армии остался на Большой земле, а трое нашли или ищут свою судьбу именно здесь. А дети Журавлёва, сын и дочь, к Северу не прикипели, хотя и родились за Полярным кругом.
Север… Далёкое Заполярье… Здесь Журавлёв мужал и утверждал себя как личность. И если на Севере стало теплей, светлей, надёжней людям, то в этом есть частичка и его воли, разума и надежды…
И вот уже идут своим чередом семидесятые годы. Постарел Пойгин. Да и Александр Васильевич перевалил, как говорится, свой пик. Сидит Пойгин в кресле в кабинете директора Тынупской школы, колюче поглядывает на Журавлёва. Видно, на языке у него что-то далеко не благостное…
Впрочем, Журавлёв догадывался, о чём так не терпится заговорить с ним старому охотнику. Недавно Александр Васильевич получил письмо от Медведева, в котором тот размышлял о тревоге Пойгина. «Он написал мне об этом с такой мудрой обстоятельностью, что я зачитываю его послание самым ответственным людям, и все находят, что это мысли ума ясного, острого, беспокойного». Сейчас Журавлёв прочтёт Пойгину эти строки, – пусть узнает, что думает о нём их общий старый друг…
Но почему, почему всплыл в памяти тот особенный взгляд Пойгина, когда глаза его пристально следили за полётом ворона?
А не хотел ли Пойгин, глядя на этого, может быть, уже древнего ворона, мысленно переселиться в него? Ведь говорил же он не однажды, что способен вселиться в любую птицу, чтобы посмотреть на всё сущее в этом мире из-под солнечной высоты. Может, и в тот миг хотел он подняться не только над пространством, но и над временем и заглянуть в прошлое, равно как и в грядущее?..
Именно во льдах Севера, где жизнь обнаруживает себя едва заметно, именно там она острее всего впечатляет порой своим неожиданным проявлением. Громоздятся бескрайние торосы, куда ни глянь – пустынный мёртвый край, будто бы попал на безжизненную планету. И вдруг – ворон. Можно себе представить, как встрепенулась душа человека, который верил, что он способен вселиться в любую птицу. Как знать, может, чем-то намекнул ему ворон в своей картавой речи, что там, если идти прямо на север, лежат туши моржей, убитых, допустим, у далёкой Гренландии. Убитых всего лишь из-за их удивительных бивней…
Читать дальше

![Николай Никандров - Белый колдун [Рассказ]](/books/27932/nikolaj-nikandrov-belyj-koldun-rasskaz-thumb.webp)