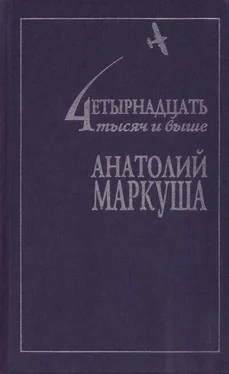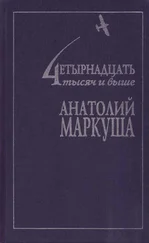Дописав сочинение до этого места, Виктор так разволновался, что его стало познабливать, руки, шея, все тело напряглись, горло перехватило легким удушающим спазмом.
И вот по воле Витьки Хабарова раскрылся парашют. Раскачиваясь на шелковых стропах, пилот обнаруживает: никакого островка нет и в помине. Коралловый риф оказался галлюцинацией. Внизу — океан, грозный и бесконечный… Не так это просто — изобразить океанский простор, и свирепый шторм, и чувства обреченного человека, если ты, автор, в жизни своей не видел еще никакого моря и понятия не имеешь о том, как выглядят шести метровые волны…
Виктор строчил сочинение, плохо контролируя охватившие его чувства. А творилось с ним что-то явно необычное — напряженный, как струна, он внутренне вибрировал, то холодея, то задыхаясь от жара. Виктор торопился раскрыть тему до конца. Прыгающими, чужими буквами писал о том, как пилот понял свою ошибку, как прошептал белыми, твердыми губами: «Нет!» и сунул руку в задний карман комбинезона.
В конце концов спор между стихией и человеком решил вороненый, тяжелый кольт. Человек ошибся, проиграл, но не сдался…
Дописывая последние строки, Виктор вдруг испытал что-то неведомое — прекрасное, сладостное, стыдное и страшное одновременно. Долго томившее напряжение разом выхлестнулось из него, и туго затянутая пружина будто лопнула. Только сердце стучало еще неровно, тяжко и сильно. Виктор бросил ручку на стол и сидел оглушенный, потерянный и торжествующий. Тогда он не знал даже слов, которыми можно было назвать пережитое. И только года через два тайком от матери выудил эти понятия из медицинской энциклопедии. А в тот день Виктор был совершенно сбит с толку, унижен и вознесен одновременно.
Восторг полета, чувство опасности были как-то связаны со случившимся, это он чувствовал, но не понимал почему. Много лет спустя, взрослым, Хабаров прочитал у Зигмунда Фрейда: «Если дети в периоде, когда любознательность направлена на сексуальное исследование, чувствуют, что взрослый знает нечто грандиозное в этой загадочной и такой важной области, в которой знать и действовать им запрещено, то в них пробуждается непреодолимое желание достигнуть этого самого, и это желание они выражают во сне в виде летания или подготавливают эту скрытую форму желания для будущих подобных снов. Таким образом, и авиатика, достигшая наконец в наше время своей цели, коренится также в инфантильном эротизме».
Был ли прав Фрейд в своем, казалось бы, неожиданном умозаключении, Виктор Михайлович судить не брался. Но свое мальчишеское переживание он помнил, помнил совершенно отчетливо.
Пришла лечащий врач Клавдия Георгиевна, и Хабарову пришлось отвлечься от своих мыслей.
— Ну-с, как мы себя чувствуем? — явно подражая кому-то, спросила Клавдия Георгиевна.
— Вероятно, по-разному: вы, надеюсь, лучше, я, по всей вероятности, хуже.
— Вы всегда такой колючий?
— В смысле небритости?
— Нет, в смысле характера.
— Ну, что вы, Клавдия Георгиевна, в принципе — я ангел, просто обстановка действует и эта идиотская лягушечья позиция, на которую вы меня обрекли, словом, внешние факторы…
Клавдия Георгиевна пощупала пульс, отвернула край одеяла и проверила вытяжение, потрогала ногу и собралась уже уходить, когда он спросил:
— Не разрешите ли, доктор, задать вам несколько деловых вопросов?
— Пожалуйста, спрашивайте.
— Скажите, какие перспективы меня ожидают? Прежде всего, я хотел бы знать сроки вынужденной посадки и обязательно ли я останусь хромоногим?
Клавдия Георгиевна потупилась. Не так просто ей было ответить. Далеко не все имеет право врач сказать своему больному. Виктор Михайлович уловил ее затруднение.
— Только учтите, Клавдия Георгиевна, я больной не типичный. Со мной можно и нужно разговаривать совершенно откровенно, тем более что мы с вами в некотором роде коллеги, и это не так уж важно, что вы пользуете людей, а я — самолеты. Ваш хлеб — диагностика? И мой хлеб — диагностика! Вам случается подписывать тяжелые заключения? И мне случается! Вы обязаны быть профессионально честной? И я обязан! А кроме всего прочего, имейте в виду: Хабаров не боится никакой правды — ни белой, ни черной, ни даже самой черной, я боюсь только неведения.
Клавдия Георгиевна присела на край постели и внимательно посмотрела на Хабарова. Щеки его были в глубоких припухших ссадинах, над правой бровью вздулся здоровенный кровоподтек, высокий лоб рассекли мелкие порезы — это осколки стекла брызнули с приборной доски, когда машина ударилась о землю. И все-таки ни ссадины, ни кровоподтек, ни мелкие порезы не изуродовали его лица. Невольно Клавдия Георгиевна подумала: «Господи, как же он здорово держится».
Читать дальше