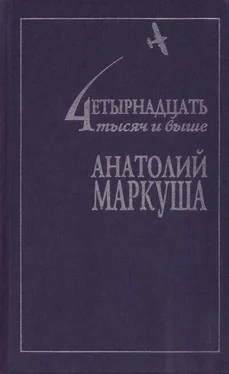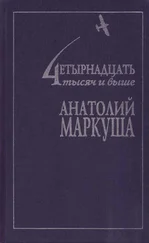— Господи, да кто это напридумал?
— Кроме Лисокрада, все имена придумал Андрюшка. Он болел, и я вырезал ему целый цирк. А Лисокрада сочинили ленинградские дураки-артельщики. Выпустили пластмассовую игрушку и на пузе выштамповали «Лисокрад», а на другой — «Лисосид» — лиса сидящая.
— А сколько ему лет?
— Кому?
— Андрюше вашему?
— Пять с хвостиком, — сказал Виктор Михайлович и прикрыл глаза. Ему казалось, что лицо с прикрытыми глазами ничего не выражает — ни нежности, ни тоски, ни сдерживаемых воспоминаний…
Впрочем, Тамара не заметила его прикрытых глаз и спросила:
— Скажите, Виктор Михайлович, а вы можете лично мне что-нибудь вырезать? На память. Он ответил не сразу:
— Могу.
На этот раз Хабаров режет долго и неторопливо. И лицо его постоянно меняет выражение, делаясь то задумчивым, то насмешливым, то злым и, наконец, лукавым.
— Держи, — говорит Хабаров и подает Тамаре тигра, изготовившегося к прыжку. Тигр очень разный, так посмотришь — свирепый, чуть повернешь, глянешь сбоку — большая добродушная полосатая кошка, еще повернешь — насмешливая, хитрющая зверюга, и сразу видно — не настоящая, игрушечная.
— Спасибо, Виктор Михайлович. Я его дома к зеркалу приклею.
— А ковер с лебедями у тебя есть?
— Нет.
— Вот это хорошо. Раз нет, приклей. Сколько-то времени оба молчат. Оба вроде отсутствуют в палате. Потом Тамара говорит:
— А почему вы про лебедей спросили?
— Так. Многие сильно их уважают, а я не люблю. — Помолчал и серьезно: — Да, а тигра зовут Шурик. Запомни.
— Шурика тоже Андрюша придумал?
— Нет. Шурика я сам придумал.
Пришла Анна Мироновна. Глянула на зверье, занявшее половину тумбочки, не удивилась. Тамара подумала: «Не первый раз видит. Привыкла». Анна Мироновна сказала:
— Сейчас я разговаривала с профессором Барковским, он считает, что все идет нормально, и никаких особых причин для беспокойства не видит.
— А кто, собственно, беспокоится?
— Все беспокоятся: Центр и министерство. Я сегодня с Евгением Николаевичем говорила, он — тоже. Между прочим, просил тебе передать кроме приветов, что Плотникову звонил Княгинин. Евгений Николаевич сказал, что ты знаешь, кто это. А еще он подчеркнул, что Княгинин принял «самое горячее участие в организации консилиума». Почему-то он очень настаивал, чтобы я передала тебе про Княгинина. Я спросила: «А кто такой Княгинин?» Но Евгений Николаевич только засмеялся: «Виктор Михайлович знает. Передайте! Обязательно. Ему будет приятно». Тебе, правда, приятно, Витя?
— Очень! Подвел я Княгинина. Представляю, как он меня кроет сейчас.
— Ты что-нибудь обещал и не сделал?
— Вот именно. Обещал облетать один аппаратик, и Княгинин специально ждал, когда я развяжусь с Севсом…
— Но ты же не виноват, Витя!
— А он-то и вовсе не виноват…
— Тебе Барковский понравился?
— Ничего дед. С понятиями, видно.
— Совершенно очаровательный старик, и как держится! А ведь ему, должно быть, больше восьмидесяти. Я девчонкой по его учебникам училась.
— А чего эти профессора сейчас делают? Агаянц еще не взлетел, я бы услышал.
— Сурен Тигранович повел всех обедать.
— Значит, Сурену старик тоже пришелся. Повел бы он просто так начальство обедать!
— Барковский всем понравился.
Кто знает, как замыкаются ассоциативные цепи памяти? Мать назвала фамилию Княгинина — и Хабаров совершенно отчетливо представил княгининское конструкторское бюро, его подчеркнуто современный стиль, и сразу появилась деталь: длинный, освещенный невидимыми лампами дневного света коридор, Марина, разговаривающая с очкариком Глебом…
Марина, Марина, Марина… Хабаров дважды обманул девушку. Дважды обещал позвонить и не позвонил. Он вовсе не собирался ее обманывать, но так сложились обстоятельства. Просто сошлись внешние факторы… А что он собирался?.. Хабарова смутило это очень уж категорическое «собирался»… И он стал мысленно сочинять письмо Марине. Обращения не придумал и начал с текста.
«Видит бог, что я не имел злостного намерения обманывать вас. Кажется, кто-то из великих говорил: «Все мы рабы и пленники обстоятельств». Так вот, я тоже раб, прикованный хоть и не к галере, а к омерзительной больничной койке. Подробности опускаю: слишком это неблагодарная задача — рассказывать о больнице. Лежу и стараюсь думать о лучшем, что было, и еще может быть. Да! Может. Как видите, я оптимист. Оптимист поневоле…
Тут на днях, когда мне было получше, я перелистывал старый толстый журнал. В номере оказались напечатанными предсмертные записи греческих коммунистов, сделанные за день до расстрела. За точность не ручаюсь, воспроизвожу по памяти: «Не думайте, что правильно умереть труднее, чем правильно жить». Христос Фелидис. И вторая: «Кто умеет жить, умеет и умирать». Николае Балис. Как говорится — им виднее. Но я не думаю, что кому-нибудь помирать легче, а кому-нибудь труднее. Всем и трудно, и страшно, и неохота…
Читать дальше