Мы оказались внутри — я не сразу понял, внутри чего, но сразу почувствовал облегчение, потому что исчезла вонь коридора или стала намного слабее. Затем, с некоторым опозданием, я услышал гнусавый мужской голос, издававший какие-то странные звуки, нечто вроде подвывания с прихихикиванием: «Э-э-э, хе-хе-хе! Э-э-э, хе-хе-хе!» И только потом уже, постепенно обретая зрение, я увидел бордовые доски пола, тяжелую ножку, скорее ногу или даже ножищу стола, коричневую бахрому скатерти и, наконец, встающего из-за стола человека.
Человек был невысок, сутул, лысоват, крючковат. Короткая шея, маленькая головка, узкий лоб, слишком узкий даже для такой головы, мохнатые черные брови и свиные глазки с кроваво-желтыми мутными белками. Багрово-красные прожилки, точки и черточки покрывали его выпуклые, сдвинутые друг к другу щечки и крылья резко изогнутого носа.
— Э-э-э, хе-хе-хе, — тянул он и хихикал. — Приехали? А-а-а? Приехали? Приехали, приехали. Ну-у? Хе-хе! Ну-у, драствуйте, драствуйте…
Я пожал его руку (короткие, толстые, крепкие пальцы, черные жесткие волоски), немного потоптался на месте и сел на диван, покрытый тяжелым ковром, мама тоже села рядом со мной и стала говорить про электрички, расписание, жару и как много народу в транспорте. Дядя Яша, сидя на прежнем своем месте, демонстративно, всем корпусом повернулся, наклонился в мою сторону, мне улыбнулся и со мной заговорил. Я увидел в непосредственной близости от себя его мелкие мышиные зубы, коричневые, но совершенно целые, ровные и острые. Рот его, явно не привыкший улыбаться, был вытянут в кривую, напряженную щель. Во время пауз он двигал нижней губой взад-вперед, обдувая верхнюю.
— Ну-у? — гнусавил он, глядя вбок, мимо и дальше меня. — Ну-у? Как ты отдыхал, как? Хорошо отдыхал? А-а-а? Хорошо? А-а-а? В лагере хорошо было, в лагере? А-а-а? Ягоды ты собирал, ягоды? Собирал. А клубничке ты любишь, клубничке? Сейчас дадим тебе клубничке, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас-а-ас, сейча-а-ас…
Он встал, отпустил уставшие свои губы и слегка в раскачку затрусил в другую комнату (оказалось, есть еще одна комната), напевая все тем же гнусавым голосом: «Сейчас, сейчас, клубничке, клубничке…» Моя мама прижала меня к себе, поцеловала и погладила по головке.
Он вернулся с тарелкой клубники и банкой сметаны. Он цепко держал короткими своими пальцами эти немыслимые сокровища и мурлыкал все те же два слова, две ноты, а я смотрел и смотрел и не мог поверить, что эти ягоды настоящие, что они могут когда-нибудь отделиться от тарелки, где так уютно и удобно лежат, и попасть в рот — не мне, а вообще кому-нибудь… У меня даже слюна не текла. Не то чтобы я не часто ел клубнику — я попросту не ел ее никогда.
Однако скатерть была отвернута, на открывшуюся желтую клеенку поставлено блюдечко. Несколько ягод, с десяток, наверное, были по одной переложены из тарелки. Он производил это действие ложечкой, помогая себе другой рукой, и после каждой ягоды облизывал палец, далеко высовывая язык. «Клубничке, клубничке…» Он ворковал и радостно пританцовывал, и, когда перемешивал ягоды со сметаной, кривил губы от напряженного усердия. «О! Немножечко сахарок, немножечко. О так! Кушай, кушай…»
Я успел еще мельком взглянуть на маму — лицо ее было напряжено. Бедная, она ведь тоже не ела клубники, разве что до войны, сто лет назад. Какое-то чувство, похожее на совесть, шевельнулось во мне и тотчас затихло. Я ничего не мог для нее сделать, я уже не владел собой.
Я ел клубнику, вставляя ложку между двумя соседними ягодами, аккуратно, стараясь не повредить, не помять, поддевал, медленно нес ко рту и долго перекатывал, смаковал и обсасывал, ощущая волнующую границу между кисловато-холодной сметаной и ароматным, плотным, сопротивляющимся мясом. Это было какое-то немыслимое наслаждение, мало общего имевшее с едой. Я был один на один со своим сказочным блюдцем — мама отсела к нему. У них шел длинный скучный разговор о каких-то шкафах и буфетах, но, когда у меня остались две ягоды, самые крупные, прибереженные напоследок, и я мог более или менее справедливо распределить свое восприятие между вкусом и слухом, я вдруг в единый миг с необычайной остротой осознал все, что говорилось сейчас и раньше. И тогда я понял, что жизнь моя прежняя — кончилась.
— Он? Он? — переспросил дядя Яша, косо мотнув головой в мою сторону, как бы боднув воображаемое препятствие. — Он будет на диване. А что? Плохо? Плохо на диване? Хорошо!
Переехали мы к нему не сразу, месяца два он ходил к нам домой, каждый раз принося пакетик карамели и свои хлебные карточки. Из карточек мама вырезала талоны и с талонами посылала меня в магазин, где все продавщицы меня знали и не могли заподозрить в обмане. Я нес черную тяжелую буханку и никогда не съедал по дороге довесок: знал, что мне наверняка разрешат его съесть, но все же предпочитал дождаться разрешения.
Читать дальше

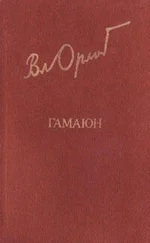



![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/407769/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni-thumb.webp)