Но вот время, все замедляя и замедляя свой ход, переползает все же на последнюю неделю. Завтрак, обед, полдник, ужин, завтрак, обед, полдник, ужин, остается три дня. Закрытие лагеря, звезда из хвороста на опушке леса, я, конечно, читаю стихи. «И послал солдат немецких против всех людей советских…» Самойлов и Лосев подставляют колени Эдику, двое других тянут их за локти в стороны — шаткая пирамида под бурные аплодисменты, пятый отряд танцует «яблочко», девочка из третьего — украинский танец. В заключение мы все хором поем «Это чей там…». Кусаются комары, так поздно мы еще никогда не засиживались. «Ты всегда пионерским салютом солнце родины встречай!» Все. «Не разбегаться, не разбегаться, строем, строем! Никуда не убегать, прямо в спальни!» Все, теперь уже совсем скоро. Я иду один, плевать я хотел на строй, все равно ничего не видно. Я уеду на день раньше срока, в воскресенье за мной приедет мама. Возьму чемодан из кладовки, печенье из тумбочки, ни на кого не взгляну, ни с кем не… А-а-а! Сильный удар в скулу сбивает меня с ног. Я лечу куда-то вбок, но не падаю, потому что получаю кулаком под ребро, меня подхватывают и цепко хватают за руки. За что, ну за что?! Лицо Самойлова, прекраснейшее из лиц, выплывает из тьмы и надвигается на меня.
— Что, сука, думал, так и умотаешь? Думал, так и улизнешь от меня? Думал… У-у-е-э-эврейская морда!
Потными пальцами он выкручивает мне нос, потом брезгливо вытирает пальцы о мое же лицо.
— Ну и противные они все, — говорит он, немного отходя, и вдруг мерзкий его плевок шлепается мне на щеку и начинает медленно стекать к подбородку.
— На, утрись, — слышу я справа от себя голос звеньевого Симоненки, и правую руку мою отпускают. Я утираюсь, чувствуя, что и на левой руке хватка ослабла.
— Кто еще хочет? — спрашивает Самойлов. — Ну, давай, ребя, рассчитывайся, сегодня последний случай. Да вы не трухайте, он не скажет, знает, что ему тогда будет.
— Зна-а-ет, — тянет вслед Симоненко, и тут я делаю рывок вправо и бегу в сторону, противоположную той, откуда слышен голос Самойлова. Бежать, конечно, глупо, кругом н а ш и, но кто-то, на кого я сразу же натыкаюсь и кто мог бы легко меня задержать, не делает этого. И я бегу, опять бегу, подвывая и истекая кровавыми соплями…
Ночью я стараюсь не спать, но меня не трогают. Видимо, решили, что с меня достаточно. Так или иначе, но я не попадаю в число вымазанных пастой и гуталином, выкинутых в одеяле на улицу, омытых мочой и обожженных «велосипедиком».
С утра я хожу по всей территории, молюсь и колдую: «Хоть бы приехала, хоть бы приехала!..» Колдовство удается. И вот я уже иду по лесной тропинке з а территорией, н е строем, я не боюсь никого на свете, я визгливо рассказываю небылицы, и моя молодая прекрасная мама несет мой уродливый чемодан.
Уже в Москве, в провинциальной суете Комсомольской площади я замечаю наконец, что моя мама, и в обычное время не очень внимательная, сегодня рассеяна как никогда. Вот мы идем мимо входа в метро, я тяну ее за руку, но она уверенно проходит дальше, в зеленом платье с большими белыми цветами, не слыша моих настойчивых окриков, а слушая лишь свои, неизменно важные, всегда абсолютно серьезные — взрослые мысли… Так понемногу, замедленные чемоданом и моим дурацким сопротивлением, мы проходим под аркой путепровода к остановке трамвая, и тут только меня осеняет, что мама не ошиблась, не заблудилась, что она знает, куда идет.
— Мы что, разве не домой поедем?
— Нет-нет, сынку, — отвечает мама таким высоким, таким ужасно обычным голосом. — Нет, мы не домой. — Голос ее скачком переходит в иной, праздничный регистр, на такое же удаление, но по другую сторону от действительно обычной интонации. — Мы поедем! С тобой! К дяде! Яше!
— К какому такому дяде Яше? Что еще за дядя такой выискался? Нет у меня такого дяди. Тебе надо, ты и езжай!
Нет, конечно, не стоит волноваться, я не был способен на такую бестактность. Я что-то коротко промычал, что-то как бы пропел в ответ — молчать мне тоже не полагалось, это могло нарушить гармонию, — и мы поехали к дяде Яше.
Мы сошли с трамвая в незнакомом мне месте на большой людной улице, у ворот рынка. Помидорные лужи вытекали из ворот на широкую булыжную мостовую. Мы перешли на другую сторону, там была еще поперечная улочка, тоже булыжная, тоже грязная, и дома на ней были вполне соответствующие, деревянные, серые, в два этажа. Мы вошли в один из этих домов, прошли по вонючему коридору с шеренгой дверей и помойных ведер, и я сразу вспомнил шестой барак и словно бы почувствовал босыми ногами мерзкую жижу на цементном полу… В самом конце, в полутемном закоулке рядом с уборной мы наконец остановились у последней двери, и мама в нее постучала.
Читать дальше

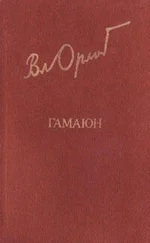



![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/407769/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni-thumb.webp)