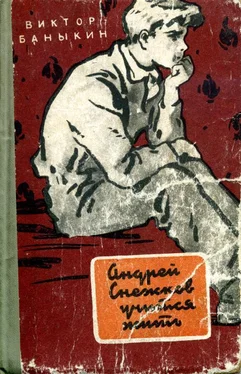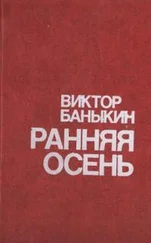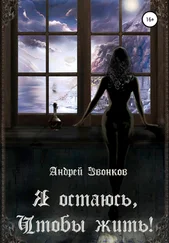На другой день в классе написал этой девочке письмо в стихах, хотя все еще по-прежнему не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Забыл только, как оно начиналось... Кажется, так:
Сижу я за уроком,
Решаю А плюс Б,
А мысли лезут боком
К тебе, к тебе, к тебе!
Письмо это я целый месяц таскал с собой в кармане, а потом изорвал. Духу не хватило отдать его той девочке, которая чем-то была похожа на подснежник...
Только к чему я все это сейчас вспоминаю?.. Снова стал перебирать в уме девчонок из своего класса. Всех перебрал, решительно всех. И почему-то ни про одну не подумал: это она — Маша или там Римка — написала записку! А может, я зря ломаю голову? Может, написала-то девчонка из другого класса? Но вот вопрос: когда она положила записку в Борькину книгу?
За этими дурацкими гаданиями меня и застала мама. Она забежала на минуточку — положить какой-то кулек (ходила, видно, в банк, а по пути зашла в лавку). Увидела меня и сразу же расстроилась:
— Андрей, ты заболел?
Как будто одни только больные валяются на тахте!
— Нет, — говорю, — и не думал. Просто так... отдыхаю.
Но мама смотрит на меня по-прежнему как-то недоверчиво.
— Сейчас же поставь градусник! У тебя все лицо горит... Если температура — прими стрептоцид. И ни шагу из дому.
И уже от порога:
— Обедай один — приду поздно... срочная работа.
Мама смахнула со лба прядку волос, — они у нее на удивление мягкие, пушистые. Чуть пригибая голову, вышла в коридор.
Наверно, я в нее такой высокий.
Как только за мамой захлопнулась в сенях дверь, я вскочил — и к зеркалу.
Ну-ну, морда: вся багровая — точь-в-точь как после бани, а носище совсем огненный, будто у деда-мороза! (Почему у меня всякий раз краснеет нос, когда я волнуюсь? Не носом же я думаю?) И вообще непонятно, что я за урод: волосы вечно дыбом, уши в стороны, ручищи до колен — прямо-таки грабли. Неужто в такого можно влюбиться?
Тут я вспомнил про записку и бросился к столу. Хорошо еще, мама не заметила. А то бы провалился со стыда!
Долго думал, куда спрятать. До этого у меня никаких тайн не было, а теперь вот... Так и не придумал, куда спрятать записку. Сложил вчетверо и сунул в нагрудный кармашек лыжной куртки. В этом кармашке я всегда комсомольский билет ношу.
Потом на скорую руку перекусил и за уроки принялся (отделаюсь от них — и за книгу). Просидел битый час над двумя задачками по алгебре и как назло ни одной не решил. А все потому, что записка из головы не шла.
Разозлился на алгебру, отложил учебник и за химию взялся. Но и с химией не повезло... Плюнул я тогда на уроки и завалился на тахту с «Лунным камнем».
Ох и скучища была нынче на уроках! По химии, как и ожидал, Юрочка влепил мне двойку. Но я нисколечко не огорчился. В следующий раз подготовлюсь и на четверку сдам, успокою Юрочку, а то он чуть не плакал, когда двойку в журнал записывал.
Вторая половина дня тянулась так же нудно и скучно, как и в школе.
На свидание я пошел в начале восьмого, хотя от нашего дома до «Гастронома» на углу Тургеневской и Садовой можно преспокойно дойти минут за десять. Выхожу из ворот, а навстречу Глеб — наш квартирант. В руках у него какой-то длинный предмет, завернутый в брезент.
— Андрюха, швартуйся ко мне!
— Некогда, — отвечаю и хочу пройти.
А он цап за руку и как крутанет к себе — такой медведище!
— Зайдем домой на секунду, дело есть.
Лицо у Глеба — блин масленый, все в улыбке.
Пока я включал свет, Глеб уже на столе брезент принялся разворачивать.
— Видишь, елова голова? — спрашивает, а сам зубы скалит — белые и все как на подбор.
— Вижу, — бурчу, а сам губы кусаю: того и гляди опоздаю на свидание.
— Что же ты видишь? — не унимается Глеб.
— Охотничье ружье. Есть еще вопросы?
А на столе действительно лежала централка — моя давнишняя мечта. Правда, ружье было не новое, но, по всему видно, хорошо сохранившееся.
Глеб тянет меня к столу и опять улыбается:
— Бери — тебе! И никаких возражений. Точка!
Я знал — возражения бесполезны. Такая уж у Глеба натура: он любит дарить — и всегда неожиданно, и всегда от души.
Подарок этот был настолько щедрым и настолько дорогим для меня, что в первую минуту, ошалев от радости, я лишился дара речи.
Глеб, видимо, это понял и, повернувшись ко мне спиной, чтобы не смущать, принялся не спеша стягивать со своих — в косую сажень — плеч затасканный и прожженный в нескольких местах ватник.
Он был во всем медлительный, этот удивительный человечище: в разговоре, в работе, за обедом. Но зато все, за что бы ни взялся, делал крепко, прочно, будто на века.
Читать дальше