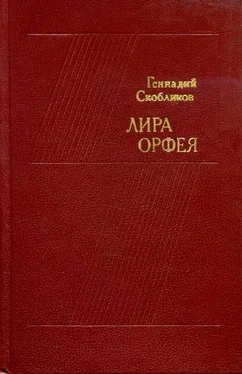И тогда, опять и опять, оживала боль и тоска по матери. Он вспоминал о ней, вспоминал ее живую — и по-своему, как это получалось у него, без слов и без мыслей, одними чувствами — одной тоской и болью души жаловался ей об этой же боли и тоске, о своем одиночестве. И вспоминал, вспоминал все, что само собой всплывало в его памяти. То они, мать и он, сидят тут на печке, и мать гладит его по голове и смотрит на него: ласково и печально... То он видит ее, больную, в белом платке, на красной деревянной кровати под красным одеялом, а он сам, в одной рубашке, стоит посреди горницы и хочет — и почему-то боится подойти к ней. Или же припоминаются какие-то другие сценки, где видится живая мать, но все это так неясно, неопределенно, и он ничего не может там рассмотреть. Вспоминается, что́ рассказывали о матери сестры: какая она была, как и что говорила, как купала их, как пела, как любила и жалела всех их... много-много разных подробностей, что так хорошо помнят сестры и чего — почти ничего — не помнит он. И как не раз с ним бывало в такие минуты, ему становилось опять и жалостливо и обидно. И он, не умея да и не желая сейчас побороть свою жалость к себе, утыкался лицом в подушку. Так хотелось бы ему плакать сейчас, долго-долго и хорошо-хорошо...
Такой вечер можно назвать счастливым.
Но бывало, его мысли о покойной матери принимают совсем другое направление. Он думает не о прошлом, а о нынешнем — и представляет мать не той живой, какой она была в его памяти, а... как лежит она сейчас там, на их деревенском погосте, в черной глубине могилы, над которой стоит самый большой на погосте их темный дубовый крест. Такая вот черная ночь в окне, черный дождь, черный ветер — и там, на черном сейчас погосте, в вечной черноте земли — его мать: навеки закрытые глаза, навечно сложенные на груди руки. Он представляет себе все это — и пока еще не боится, пока его фантазия не пошла дальше. Но она, беспощадная его фантазия, если уж начала, то, хочет он или не хочет, прокрутит ему всю «ленту» уже предощущаемых им картин, и он, страшась заранее их зримости, все же желает их и даже как бы поторапливает их приход. И вот он уже представляет, как бы оно было, если бы, случись такое, мать вдруг воскресла, встала, вышла из могилы и пошла бы сейчас домой. Да, он боится такого направления своей фантазии, ему жутко будет видеть все дальнейшее — ночью одному в хате... и в то же время, внутренне сжимаясь весь в комок, он мыслью своей, видением своим — весь за своею фантазией, даже торопит ее, чтоб отчетливо увидеть все, что будет сейчас проходить перед ним. ...Он, затаившийся на своей печке при свете каганца (от вихляющегося язычка пламени за пределами печки так пугающе, по-живому колеблются тени...) — и эта вот черная ночь за окном, и в ней, оттуда, с погоста, через пустырь по Косой дороге и д е т . . . в с я в ч е р н о м, в ы с о к а я, п р я м а я . . . Он видит ее, боится — и все-таки хочет поближе, хочет увидеть ее лицо, каким оно было у нее в тот день, он помнит, когда хоронили ее; — но Она, Мать, она не показывается ему: только вот этот высокий, прямой, черный силуэт ее, и молчаливо и непреклонно все ближе и ближе... Она — Мать его, но она уже и не мать ему. Она — сама по себе, тень его матери, идущая сюда. Ему все более и более жутко, он замирает, все у него в душе сжимается в маленький леденящий комочек — и все равно внутренним зрением он не отрываясь следит: прошла засеки, идет по длинной прямой дороге огорода — прямая, высокая, вся в черном... прошла сад и вот уже подходит к хате, должна сейчас или постучать в дверь или заглянуть в окно...
И все. Холодный страх отделяет Ее от него, внутреннее зрение потухло. Теперь он видит только то, что есть перед ним тут, в хате: освещенную каганцем печку и себя на ней, и, значит, хорошо видимого с улицы в окно, вот в это, рядом с печкой. Ему страшно, что на него, может, уже смотрят (о матери мысли нет, за окном может быть только жуткий призрак, призрак вообще), и он делает единственное, что может сделать: быстро передвигается в дальний угол к стенке, где из окна его уже не видать. Но и перед этим он, перед тем, как передвинуться в угол, хоть на миг да успевает взглянуть в окно: будто сила какая тянет его заглянуть в этот черный прямоугольник окна, перекрещенного крестом рамы. Взглянул — и быстро назад. Видел или не видел? Кажется, никого, не успел. Но кто-то там все-таки есть, черной тенью... И он, держа под косым взглядом окно, точнее — предоконье, пятится в этот спасительный угол. И сколько он сидит тут, затаившийся и оцепеневший в своем страхе, он не знает, для него сейчас и секунда — вечность. Он прислушивается к каждому звуку и шороху улицы и хаты... и, конечно же, ему слышатся чьи-то вкрадчивые шаги, и он ждет, ждет, ждет... зная только одно: отвечать, если позовут, нельзя. Он ждет... но, слава богу, никто пока не стучит, никто оттуда, из ночи, не зовет его...
Читать дальше