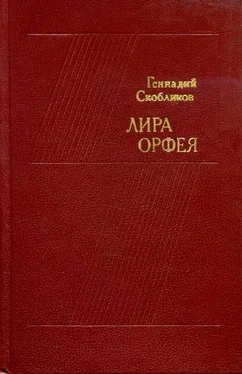Тогда, еще год назад, после того большого ее письма, когда она написала ему, как она выражалась, «о своем позорном прошлом» и «о страшной тайне своей», он пережил настоящее счастливое потрясение. Лида наконец-то открывала ему истинные причины ее сдержанности и замкнутости с ним — и все становилось теперь на свои места, все оборачивалось самым наилучшим для них образом. Теперь ничто уже не должно было тяготить Лиду, она сняла с себя свой непосильный груз, освободила себя от тяжести прошлого. И он рад и счастлив был за нее, что она пересилила себя и открылась ему, и еще, конечно, жалел, что она не решилась на это признание раньше: ведь сколько ненужных осложнений не пришлось бы им пережить! Что же касается его личного отношения к ее былой причастности к той воровской компании, то, кроме искренней боли за Лиду и нынешней радости за нее, у него ничего не было. И конечно уж — никакого укора в ее адрес, ничего такого позорного и постыдного не видел он, из-за чего она все еще мучилась там. Подумаешь, пятнадцатилетняя девчонка, предоставленная сама себе, не сумела вовремя разобраться в своих новых друзьях и подружках.
Правда, ответил он ей тогда не сразу, спустя месяц или даже больше (будто сам себя проверял на истинность своего нынешнего отношения к ней), и ответил хорошим серьезным письмом. Лида откликнулась тут же, и письмо ее было короткое и радостное: «Если это только не сон, я самый счастливый человек на свете...»
И у них возобновилась горячая переписка, перешедшая скоро и в деловую. Было решено, что летом Лида приедет в Москву попытаться поступить в какой-нибудь техникум, и он начал, в чем надо было, помогать ей: выбрал на свое усмотрение техникум и навел там необходимые справки, послал ей справочник и программу, договорились о ее приезде летом к нему в деревню, в Курск, чтобы потом вместе ехать на ее вступительные экзамены в Москву.
Всего каких-то полгода назад тогда (он был на втором курсе) договаривались они о ее поступлении, — и вот уже было это ее письмо, ее чудесный муж, ее упреки и ее обвинения...
Да, конечно, виноват был он тогда во всем, что сорвалась их поездка в Москву, он и не оправдывал себя. У них от тяжелой болезни умирала мачеха (и она умерла тогда же, в конце июля), и он, в такой ситуации, не смог позволить себе на две недели поездку в Москву, о чем и написал из деревни Лиде: что он только встретит ее в Курске и объяснит ей, что ей и как надо будет делать в Москве. А она обиделась тогда на него и вообще не поехала сдавать вступительные экзамены.
Да, конечно же, виноват был еще он и в том, что и сразу же после похорон мачехи он все еще мог вызвать Лиду телеграммой и они смогли бы еще успеть к экзаменам, и он опять же не сделал этого, так как просто не смог, не осмелился заговорить в такой ситуации со своим отцом об этой (по крестьянскому отцовскому разумению — совсем и необязательной) его поездке.
И все равно: зачем же она такие слова в его адрес, такие слова!
«Ты никогда ничего не делаешь, не преследуя какой-нибудь цели». Не было тогда для него ничего более обидного и несправедливого, чем эти ее слова. Даже ее, как гром среди ясного неба, замужество, даже ее чудесный супруг — все отступило тогда перед этими несправедливыми ее словами. Да, он знает: он виноват, он непростительно виноват, — но только, конечно, не в этом: «Ты никогда ничего не делаешь, не преследуя какой-нибудь цели». Потому что и это тоже была неправда, и это тоже было несправедливо. По отношению к ней, к Лиде, он как раз никогда не преследовал никакой цели. Никакой. Для него она просто была — и все.
Ну и все остальное, конечно, — все к одному: и ее — уже свершившееся — замужество, и это ее любезное приглашение к ним в гости...
Что же это было тогда, как же было ему в те часы и в те дни, в те недели, если назвать сейчас все пережитое им предельно откровенно и по возможности точно? Кусал локти, что теперь уже точно навсегда потерял ее и потерял по своей вине? — Да, было. Испытывал какое-то неожиданное (знал сам — нечестное; и предательское) чувство освобождения, когда опять оставался один как есть перед какой-то новой чертой, перед каким-то новым началом? — И это, коль честно, было. Но все-таки самое главное, самое сильное, самое убивающее было — осознание непоправимости случившегося, чувство непростительности своей вины, что он в нужный день и в нужный час не поднялся над самим собой и не сделал того, что должен и обязан был сделать.
Да, и должен и обязан был сделать...
Читать дальше