— То есть? — нахмурился Хитрович. — Это будет чересчур, когда начнет отражаться на работе.
— А что, не отражается? Не обманывай, Николай, ни себя, ни меня. Работа у тебя потекла меж пальцев, твоя волынка заслонила от тебя все. Как ты прорабатываешь во взводе партконференцию? Никак. Что поговорил Робей, с тем и есть. На лошадей ваших смотреть муторно, гривы от перхоти седеть начали. А винтовки, а седла?.. Не отражается?!
Корчится Хитрович, будто под рубаху ему полезли крысы. Шлюзы его мокнут, он опускается весь и уже покачивается в седле не пружиной, а соломенным генералом, за которым он гонялся на празднике.
— Ты небось думаешь: я, я, — а на деле-то балда ты круглая. Люди, милый мой, определяются не по тому, как они о себе думают, а по тому, что они из себя представляют. По тому, как и что они делают, какую работу выполняют. Вот что... Любовь мне твоя горло переела, хоть сердись, хоть гневайся, а за работу тебе взяться надо.
— Чем же это нехорошо?.. Любить-то?
— Люби ты, дубина стоеросовая, кто тебе запрещает! Но ведь не до обалдения же, нельзя же из этого делать какого-то божка и поклоняться ему. Какой ты командир, если ты ходишь и вздыхаешь, как барышня? Кому это нужно! Ты работу забросил, ты думаешь только о себе, как бы так сделать, чтоб она стала твоей, как бы она там не подмигнула кому. Ты думаешь о ней, как о собственности. Это буржуазное отношение к женщине, да еще с идиллией твоей, и получается совсем гниль.
Пахло сыростью. Баженковские болота курились белесым туманом. Впереди Робей застучал по Горбатому мосту.
— До свиданья!
Хитрович, упершийся взглядом в гриву, не слышал стука копыт Ветрова коня, не заметил, как его лошадь повернула и медленно пошла обратно.
Вскоре знакомые галки, встревоженные галопом Хитровича, опять закричали. Новоселицкие собаки с ревом кидались под ноги, ловили обсеченный лошадиный хвост и тонули в клубах мышиного цвета пыли.
На конюшне Хитрович долго по очереди осматривал похрустывающих овес лошадей, морщился от грязи, связанных веревочками и даже проволокой недоуздков, изрытых стойл, обгрызенных кормушек.
— Где взвод? — спросил он у Силинского, мастерившего в казарме какой-то ящик.
— Ушли. В первый взвод ушли, договор заключать.
В тот же вечер, когда Куров прочитал вызов, после вечерней поверки во втором взводе завязался жестокий спор.
Легли спать по обыкновению после крепкой зарядки махрой и пополоскавшись под краном умывальника. Казарма начинала затихать; еще в углу вполголоса переругивались насчет того, чтобы не размахивать во сне руками, но вскоре и они успокоились. Последняя койка взмахнула одеялом, как громадным крылом, последний кряк укладывающихся крякнул — и казарма затихла.
— Слышь... Третий-то взвод... принял, — вполголоса, будто о чем-то постороннем, проговорил один.
— Чего принял?
— Вызов-то.
— Ну-к што ж?
— Ничево.
Опять замолчали. Кое-кто завозился.
— Неловко вроде.
— Чего неловко? Ничего неловкого нет. Не согласны — и все.
— Скажут, какая ваша мотировка?
— Мотивировка?..
— Не подходящи, мол, условия, — ввязался еще один.
— Условия? А они скажут: давай пересмотрим, раз неподходящи.
— Д-да-а...
— Послать их подальше, — сказал Вишняков.
— Тут дело добровольное, факт, можно отказаться. Силом не будут.
— Д-да-а...
Кряхтел взвод, ворочался с боку на бок, шарили красноармейцы на матрацах неровности и, разгоняя солому кулаками, сопели.
— Сурьезное это дело.
— Какое дело?
— «Какое»... Такое — не мазано, сухое.
— Тут покумекаешь как — выходит, что добровольно хомут одеть хочут, — опять сказал Вишняков.
— Д-да-а...
— Мало хомутов-то, так еще заставляют, чтобы сами одели.
— Д-да-а...
— Про старую армию хоть и говорят, а только мы там не были, не знаем.
— Д-да-а...
— К чертовой матери их совсем с армией и с дисциплиной сознательной!
— Д-да-а... То есть, это кого? — спохватился вдруг Граблин.
— Их.
— Ково их?
— Этих самых.
— Стой, стой! Насчет чево это там? — загалдели другие.
— Кто это?
— Это каку армию к матери?
— А ты лежи, не привязывайся, как банный лист к голой...
— Нет, ты скажи, каку армию?..
— К-катись ты...
— Кто это, Вишняков?
— Кто бы ни был.
— По запаху слышу... по кулацкому.
— Какому?
— По кулацкому. — Сказавший это вдруг вскакивает. — Да что ж ты, кулацкая морда, думаешь, мы бараны? Вонючая образина! Сволочь! Это кого к матери? А? Кого?
Читать дальше
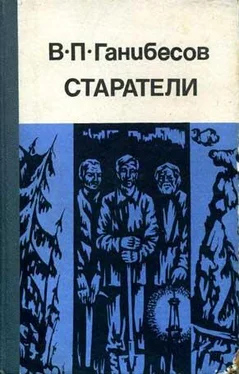




![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/298692/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl-thumb.webp)





