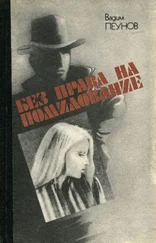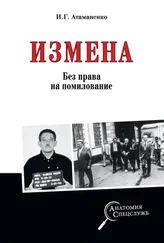Ефимий Лукич, словно чуткий охотничий пес, не сбиваясь со следа, вышел прямо к березовому лесу, где стоял мехбат капитана Казарина. На опушке его окриком остановил часовой:
— Руки вверх! Куда прешь? Стрелять буду. Буренкин не испугался, хотя, подумав, руки и поднял.
— Ишь расстрелялся. Быстрый какой, фашистов тебе мало, чтобы в меня стрелять?
Лядащенький солдатик строго выкатил глаза:
— Может, ты фашист и есть.
— Как же, дурак он, фашист, чтобы прямо с утра тебе в лапы идти.
В это время в березовом вперемешку с осиной лесу уже вовсю сновал народ. Военный люд, отзавтракав, принялся за свои дела. Действительно, какой же фашист будет околачиваться здесь, если и впрямь не круглый дурак.
— Опусти руки! — приказал солдат. — И выверни карманы.
Ефимий Лукич спорить не стал, вывернул все карманы. То, что этот тощий верзила так послушно исполнил приказ, коротышке весьма понравилось. Захотелось скомандовать:
«Смирно!» — и поставить старика навытяжку, но он удержался. И так видно, что тут его власть.
— Служба, отец, служба. Порядок требует, — сказал коротыш, позволяя себе снисходительность. — Ну как теперь нам с тобой быть?
— У меня дело есть. К командиру.
— Какому такому командиру?
— К такому, какой побольше.
— Тоже сказанул. Тут, отец, начальники — один другого выше. Ты говори, дело какое?
— Военный человек хозяйство мое разорил. Ищу возмещения и наказания.
— Такое дело только старшина может решить.
— Не решит. Тут начальство подюжей требуется.
В этот момент из оврага вылез солдат с двумя ведрами воды.
— Эй, Эпштейн, мне тут с поста сойти нельзя, поставь–ка свои ведра и отведи вот этого к капитану.
— А я должен, что ли?
— Коли я сказал, должен, — отрезал коротыш.
Вот так, без всяких мытарств и излишних проволочек Ефимий Лукич Буренкин предстал перед капитаном Русланом Сергеевичем Казариным, чей мехбат, передислоцируясь во фронтовой полосе, задержался как раз на полпути от Подлипок к передовой. И с этой самой минуты судьбу третьего уже решали не житейские законы. Они отступили. В силу вступил закон войны.
За эту неделю на душе у комбата Казарина немного улеглось, и печень отпустила, а оттого и лицо маленько посвежело, отошла синева с сухих потрескавшихся губ, в серые, потухшие глаза вернулась ясность. Сердечной боли, нанесенной изменой жены, он решил не поддаваться. Старался изо всех сил. Вспоминал все дурное, что было в Розалине и прежде, все ее выходки — хотя бы как она даже в лучшие их времена вечерами допоздна не возвращалась домой, а он ждал, изводясь ревностью. Но перед глазами возникала и другая Розалина — красивая, стройная, разметав свои черные длинные волосы, смеясь, она бежит по тропинке в гору. Они уже давно законные муж и жена. «Догоняй! — кричит Розалина. — Догонишь — твоя!» — и вдруг, резко повернувшись, бросается мужу в объятья. Так, в обнимку, они скатываются по склону и пропадают в густой траве под деревьями.
Нет, все это Руслан Сергеевич должен забыть, раз и навсегда. Иначе вконец изведешься. И прошлой ночью двадцатидевятилетний капитан решил прибегнуть к такой уловке: каждый раз, как вспомнит Розалину, будет выдергивать у себя с головы щепотку волос. Если он своим чувствам не хозяин — значит, останется совсем плешивым. «А ведь эта беспутная даже волоска моего не стоит, — с неожиданной бодростью заключил он. — А коли так быть гордой голове капитана Казарина с кудрявой шевелюрой!..»
После такого решения он почувствовал свободу — словно скинул с души какой–то груз. Поникший, съежившийся в последние дни, он расправился, распрямился. О своих переживаниях Казарин никому не обмолвился ни словом, хотя, может, и нашлись бы, кто его жалобу выслушал. И телесную боль, и душевную тоску капитан в себе, в одиночку перемалывал. Не из тех он был, кто и мелкие свои невзгоды, и большое горе по сторонам расплескивает. Может, потому и чужие жалобы, чужую печаль принимал не сразу. Как бы там ни было, сам с собой Руслан Сергеевич Казарин обходился без жалости, без пощады. И победил. И в другой раз уже не поддастся.
Сегодня, казалось, комбат был в приподнятом настроении. Раза два, так просто, без причины, подергал себя за волосы и улыбнулся — смешно. «Держись!» — сказал он то ли себе, то ли волосам.
И даже этого, странного здесь, явившегося спозаранку человека встретил Казарин довольно благодушно. Забавными показались и его худая длинная фигура, и одежда, — то ли кучера, то ли коробейники одевались так в прежние времена. Этот долговязый старик, коснувшийся картузом потолка землянки, даже понравился ему. А тот пролез в дверь и, разогнувшись, кивнул: «Здравствуй».
Читать дальше