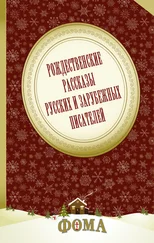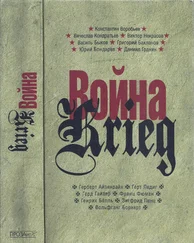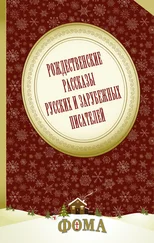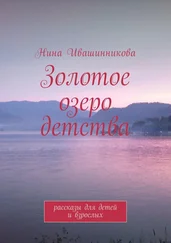В прошлом году летом наши наступали, и от востока по ночам доносился гул пушек, а днем иногда пролетали самолеты. В один день в деревню въехал финский обоз. Почему обоз сюда завернул — непонятно, так как тут никаких проезжих дорог в сторону границы не было. Когда финны поняли ошибку, то стали спешно заворачивать коней.
Обоз уже вытянулся обратно за околицу, на поля, как откуда-то налетел наш самолет. Должно быть, увидел летчик военных, да как пошел низом, да как начал палить! Бросив повозки, солдаты кинулись кто куда, а многие попадали убитыми тут же. Лошадей никто не держал, и они рвались в стороны, ломая оглобли и опрокидывая в канаву телеги — что творилось!..
Прасковья все это видела, потому что с сыновьями на поле окучивала картошку. Они все трое бросились к старой картофельной яме и улеглись в ней.
В эту же яму спрыгнул запыхавшийся финский солдат с худым лицом, без винтовки и без фуражки. Он все старался втиснуть в неглубокую яму свое долгое тело, и его длинные ноги касались ног Прасковьи. Он испуганно косил глазами на ревущий самолет, а когда тот пролетал дальше, то растерянно улыбался Прасковье, будто стеснялся ее и детей.
Вот тогда-то Андрюшка, сердито глядя на солдата, сказал: «Это мой папа летает. Он нас не тронет, а тебе задаст!..» Прасковья испуганно зажала ему рот рукой: «Молчи!..» Но Андрюшка вывернул голову и опять свое: «Пусть не лезет в нашу яму!»
Неизвестно, понял ли солдат, что по-карельски говорил ему Андрюшка, но финн почему-то виновато улыбнулся и напоследок показал на улетающий самолет: «Это ваш, ваш. Скоро ваши сюда придут, а мы — домой, домой!» — и ушел к дороге, откуда слышались крики и редкие хлопки выстрелов — добивали раненых лошадей.
Тем дело и кончилось, только с тех пор Андрюшка решил, что обязательно будет летчиком и будет так же бить врагов.
Прасковья разделась, сняла сырые сапоги и, доставая с печи валенки, спросила у младшего:
— Где опять гвоздь достал?
За Андрюшку ответил Сенька:
— Он у Петьки Проккоева на пареную репу выменял. Сам даже не ел.
Андрюшка покосился на брата, потом, елозя языком по нижней губе, улыбчиво уставился на мать.
А Сенька продолжал:
— Выдумал тоже — из-за ржавого поганого гвоздя голодным оставаться!
— Он не поганый.
— Что я не видел?
— Вот и не видел.
— Покажи. Ага!..
— Будет вам! — пристрожила Прасковья, а сама с горечью подумала: «Отчего они ссорятся? Меньше были, дружней жили. Возраст или такая жизнь на них действует, с нехватками? А откуда лучше взять? Уж куда как стараюсь, и трудодней порядком заработано… Что поделаешь, коли все на войну шло. Может, теперь полегчает, и Андрей вернется?»
И от того, что так подумалось, она немного успокоилась.
— Собирайте на стол! — сама вышла в сени, чтоб принести из чулана хлеб.
Но тут по крыльцу протопали тяжелые шаги, и в проеме двери появилась Матрена Руттоева. В довоенном пальто, на голове большой цветастый плат, на ногах туфли. Нагнув в дверях голову, она сунулась в сени, шумно передохнула:
— Эхма! Хоть дух-то перевести! Встречай, девка, гостей. Зойка, где ты там? Плетешься, как старая лошадь!
В сени боком, стараясь быть незамеченной, вошла еще вдова Зоя Баляшкина. Тихо молвила:
— Уж ты не можешь аккуратней.
— Праздник сегодня! — Матрена притопнула ногой. — Верно я говорю, Панюшка, подружка ты наша бессменная?
— Верно, верно.
В приоткрытую дверь с любопытством просунулись Сенька и Андрюшка.
Матрена увидела их.
— А что, мужики, спляшем? Эхма!.. — Она потопала в сенях, заскочила в избу, заплясала-задробила там.
— Сбесилась девка, — улыбнулась Прасковья. — Проходи, Зоя.
А Матрена, кружась по комнате, на ходу стянула с себя верхний платок, пальто и все бросила на убранную кровать. А сама так притоптывала крепкой ногой да приседала грузным телом, что позванивали ложки и тарелки на столе. Еще покрикивала:
— У-ух!.. Зойка, почему не взяла гармонь? Музыку хочу! Андрюшка, почему музыки нет?
Андрюшка только улыбался да мусолил языком губу.
— Ты чего, варнак, улыбаешься? Над теткой Мотей смеешься? Ишь, улыбка-то какая бедовая, что у батьки! И сам, поди-ка, в батьку пойдешь — удалый да бедовый, а? — Матрена остановилась посреди пола вдруг и поглядела в окно, где уже потухал последний луч солнца. — Ох, батьки, батьки… Где-то наши батьки, в какой-то земле лежат они, горемычные? — И сразу Матренино тело, большое да сильное, будто съежилось и ослабло. И она рухнула на кровать, лицом в подставленные ладони, беззвучно затряслась. Одна туфля у нее свалилась с ноги и в наступившей тишине как-то уж очень громко стукнула об пол.
Читать дальше