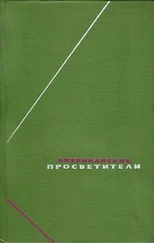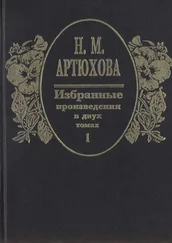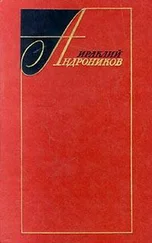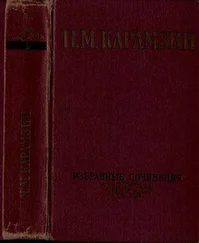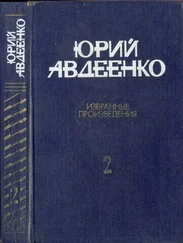— Как было? — И застенчиво пожала плечами. — По-деловому. Я стучала у него в приемной на пишущей…
— Секретарь-машинистка?
Бабушка отмахнулась.
— У него и не было такой сроду. За счет этой должности держался кто-нибудь понужней для стройки… Просто там машинка стояла, а я стучала, потому что печатала стенгазету…
— А он? — как бы подтолкнул ее Костя, когда она приумолкла.
— Вышел из кабинета, убедился, что никого нет, кроме меня, рабочий день давно кончился, и говорит строго, как… нет, еще строже, чем всегда: «Марья Авдеевна! Я не сторонник лишних слов. Поэтому сразу главное: выходите за меня замуж».
— А ты как заорешь: «Согласна!»
— Дурак! Какой же ты дурак, Костик! Сижу сама не своя и тихонечко отвечаю: «А я люблю лишние слова».
— А он? Тут же прочитал тебе стихи! Сонеты Шекспира?
— Не смейся, Костик. Хочешь — расскажу, а не хочешь…
— Прости, ба.
Баба Маша вздохнула потише и положила руку на сердце.
— «А я люблю лишние слова», — говорю. А он весь кровью налился, красный сделался, прямо, как спелый помидор, и спрашивает: «А меня, значит, не любите?»
— А ты?
— А я захохотала. Как ненормальная, захохотала, Костик!
— Отчего?
— От счастья.
Бабушка провела пальцами по лбу, убирая седые прядки.
— А потом?
— А потом война, Костик.
— Через год, через месяц?
— Через день. И мы с Артемом Петровичем на фронт поехали. Можно сказать, это было наше свадебное путешествие…
— Призвали деда?
— Нет. Он носил толстенные очки. У тебя, между прочим, близорукость, думаешь, от чтения по ночам? Скорее наследственная… Он ушел добровольцем. Удержать пытались, но куда там! И стал командовать взводом семьдесят шесть…
— Чего — семьдесят шесть?
— Миллиметров. Снаряды такие. Полковая батарея.
— А ты зачем с ним поехала?
— Не знаю. Наверно, очки в запас повезла. Он ведь без очков совсем слепой. Мы даже в панораму, под наглазник, приспособили стеклышко от одних очков.
— В какую панораму, ба?
— У орудия есть такой прибор. Для наводки.
— Раз прибор есть, должны быть и наводчики!
— И наводчики погибали, Костик. И тогда Артем Петрович сам вставал к орудию. Не раз, — чуть слышно ответила баба Маша, опять задумавшись, будто вспоминала знакомые лица убитых. — А через год я уехала с фронта рожать твою маму…
— А дед?
— Война длилась еще три года, Костик.
— Но ты-то нуждалась в помощи, ведь совсем одна! И он мог уехать… Пошел добровольцем!
— Тем более, — коротко ответила бабушка.
А смотрела все так же далеко: что там видели ее глаза?
— Почему он остался? Не понимаю! — вскрикнул Костя.
— А я понимаю, почему ты не понимаешь.
— Ну?
— Ты трусишь. Задним числом. За деда.
Он не ждал этого и обиженно ушел. И вытянулся на диване. За что она назвала его трусом? Есть ли для мужчины слово обиднее? В конце концов, требовалось позаботиться о ней, будущей матери, не заставлять мыкаться в Саратове или — еще хуже — каком-то Сольвычегодске! Где родилась мама. В этом тыловом городе, среди больных стариков и голодных старух, было, может, страшнее, чем на войне.
Нет, не было…
Ничего нет страшней войны. Человек вполне законно мог уйти с войны, а не ушел. Пойми попробуй! «А может, ты и правда трус, Костя?» — спросил он себя.
Соглашаться не хотелось. Виновато мягкое сердце, никто из родных этого не понимает. Ну и черт с ними! Он схватил из стопы книг верхнюю, чтобы отвлечься и успокоиться, и не успел открыть, как из-под обложки выпорхнула десятка и закраснела на мятой подушке. Надо уезжать отсюда, от беляшей, от этих десяток, которые засовывали в его книги бабушка или мама, он толком и не знал, кто, но кто же, кроме них? Сунуть в карман электрическую бритву, подаренную отцом в день его рождения, она, помнится, была пущена за столом по всем рукам, отец, несмотря на образование, все делал с речами, с тошнотворной парадностью, не мог иначе, — и пока! Уехать! А куда?
Когда прошлым летом он отдыхал в Пицунде — очередной жест отца, купил для сына путевку на заводе, и об этом до сих пор вспоминалось при людях, — их возили на экскурсию в Новый Афон, там бродили в глубине холодных и таинственных горных пещер, к которым подвез крошечный подземный поезд, похожий на поезд игрушечного метро, а потом поднимались к бывшему монастырю, чтобы повосторгаться плоскими и примитивными фресками. Кто ему без скидок понравился там, так это гидесса. Молодая, в черных локонах, длинная, была она сногсшибательной внешности, да еще с таким внутренним богатством, как юмор.
Читать дальше
![Дмитрий Холендро Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы] обложка книги](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-cover.webp)