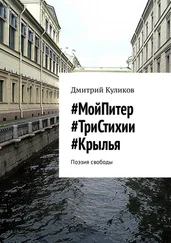Затем наступила тишина. Люди спали или ходили бесшумно. Город был тих. За стеной никого не было. Лошадь стояла спокойно, изредка двигая челюстями лениво, словно жевала слюну, словно растирала зубы в терпкий, костяной овсяный порошок.
А наутро, — то есть, пропустив один день службы, — комсомолец Монякин пришел в музей. Учитель уже поджидал его на улице у крыльца. Они встретились холодно, не поздоровавшись. У Монякина за плечами на ремне была винтовка. Он остановился перед стариком, держа руку на ремне, и недоверчиво стал рассматривать учителя, будто видел его в первый раз в жизни, будто надо было ему решить, что это за человек.
— Ну, где прятались? — спросил он наконец.
Бабицкий, худой, согнутый, веревочный Дон-Кихот, виновато улыбнулся и ответил, задержав улыбку дольше, чем следует, отчего она стала еще фальшивей.
— Дома. У дворника.
— Эх, вы! Историк! — сказал Монякин и вошел в дом. Учитель следовал за ним. Дверь библиотеки была открыта. Они вошли и остановились. Пол был усыпан мелкими осколками фарфора, вперемежку с крупными осколками мутного бутылочного стекла. Переплеты многих книг валялись у камина, в камине был пепел, почти такой же, как всегда, чуть-чуть только разве черней. Из распоротой мебели вываливались внутренности, как из старых заигранных игрушек. Многие холсты были вырваны из рам, и пустые прямоугольники и овалы обрамляли крюки, веревки и обои.
В картине № 42 — «Нагая» — было выжжено папиросой, или скорей углем, срамное место и часть живота. Получилась неровная, большая, в два кулака дыра, с темными закоптевшими краями. Обои не просвечивали сквозь это отверстие — их затеняла остальная часть холста, — и выжженная рана проваливалась в темную глубину, в пустоту, в тень. И оттого, что женщина, несмотря на эту стыдную рану, смотрела с картины прежним, ровным и восторженным лицом, вся фигура и даже темный ее фон приобретали другой, дерзкий, бесстыжий смысл. Дыра стала существовать, как часть обнаженного тела, и оттого, что эта темная часть имела глубину, вся фигура стала казаться незаконно плоской, распятой для показа на холсте.
Бронза валялась на полу в беспорядке, как валялись бы в комнате камни.
Монякин снял с плеча винтовку и, держа ее в руках, пошел к кабинету, тяжело ступая по хрустящим осколкам фарфора. Учитель следовал за ним. Они открыли дверь в кабинет, где все было в порядке — все было таким, как оставили они. Никто не разрушал золотой мебели.
Посреди комнаты стояла лошадь. Она повернула голову к людям, и в мутных ее, голодных глазах было тупое, не способное на борьбу ожидание.
Комсомолец кружился по комнате, взволнованно осматривая вещи. Они были привычно целыми — гордые портреты, массивная мебель, большие прочные книги. Учитель стоял у дверей.
— А здесь все цело! — радостно, не доверяя самому себе, сказал Монякин, хотя это было ясно, и Бабицкий все это видел. Монякин подошел к лошади, погладил усталую ее морду и посмотрел на старика.
— Мы с лошадью были дома, — ответил старик. — У нас с лошадью все благополучно.
Он ехидно и вместе с тем горько улыбнулся, и ожидалось, что медленная его улыбка будет скрипеть, как ржавая петля на редко открываемой двери.
— Историк! — дерзко крикнул ему Монякин, хотел сказать что-то еще, но сдержал себя и махнул рукой, как будто выбросил долго комкавшееся письмо.
Учитель снял кожух и, не зная, куда его повесить, положил на лошадь, на седло. Потом привычно подул на руки и подошел к вещам. Он брал с этажерки чашечки и рассматривал их. На фарфоре были те же извечные голубые пастушки, золотые деревья и сиреневые глазированные воды и облака.
1928
Скромный немецкий сапожник совершенно неожиданно попал в историю революции. Он прославился тем, что сдавал от себя комнату, которую снимал, будучи в Цюрихе, Ленин.
Теперь тысячи русских, в Сибири, повсюду знают, что сапожник не советовал ему ехать в семнадцатом году в Россию, полагая, что там трудно будет найти квартиру. Все знают, что его жилец отвечал:
— Нет, у меня там много друзей и, я надеюсь, мне удастся устроиться на квартире, только вряд ли она будет такой спокойной, как ваша, герр Каммерер.
Я вспомнил этот великий пример, потому что подобно немецкому сапожнику мы с мамочкой чуть не попали в историю русской литературы.
Наш город — очень хороший город, и я до сих пор вспоминаю о нем. Тянет посмотреть на Днепр, говорят, он обмелел с тех пор. Заячья коса уже застраивается и ее назвали «Сыпучим островом». Я еще не видел Сыпучего острова. При мне его не было.
Читать дальше